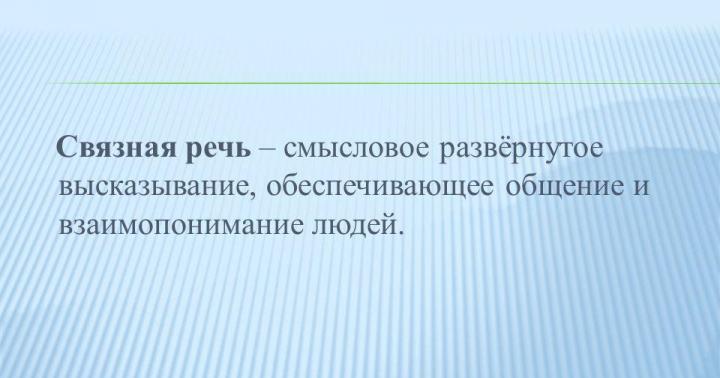Пощечина общественному вкусу
Название манифеста русских футуристов (декабрь, 1912), написанного поэтами Давидом Давидовичем Бурлюком (1882-1967), Алексеем Елисеевичем Крученых (1886-1968), Владимиром Владимировичем Маяковским (1893-1930) и Велемиром Владимировичем Хлебниковым (1885- J 922), а также альманаха (1912), предисловием к которому он послужил.
Полное название манифеста: Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства. Авторы манифеста писали:
«Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы - лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори невиданных красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанными этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым (Соллогуб, Кузьмин вместо Сологуба и Кузмина - это так называемые «опечатки неуважения», сознательно сделанные авторами манифеста. - Сост.), Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников
сделанный вами Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
(Цит. по: Серебряный век. В поэзии, документах, воспоминаниях. М, 2001).
Шутливо-иронически о чем-либо, вызывающем всеобщее возмущение, оскорбляющем (дразнящем) устоявшиеся эстетические вкусы и привычки.
См. также Сбросить с парохода современности.
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. - М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .
Смотреть что такое "Пощечина общественному вкусу" в других словарях:
Обложка сборника «Пощёчина общественному вкусу» первый поэтический сборник кубофутуристов (петербургская поэтическая группа «Гилея»), вышедший 18 декабря 1912 года. Наиболее известен благодаря сопровождавшему его одноимённому манифесту. В… … Википедия
Обложка сборника «Пощёчина общественному вкусу» первый поэтический сборник кубофутуристов (петербургская поэтическая группа «Гилея»), вышедший … Википедия
Крупнейший поэт пролетарской революции. Род. в с. Багдады Кутаисской губ. в семье лесничего. Учился в кутаисской и московской гимназиях, курса однако не окончил. Психология ребенка складывалась под впечатлением героической борьбы… …
Владимир Владимирович (1894 1930) крупнейший поэт пролетарской революции. Р. в с. Багдады Кутаисской губ. в семье лесничего. Учился в кутаисской и московской гимназиях, курса однако не окончил. Психология ребенка складывалась под впечатлением… … Литературная энциклопедия
- (от лат. будущее) одно из главных направлений в искусстве авангарда нач. 20 в. Наиболее полно был реализован в визуальных и словесных искусствах Италии и России. Начался с опубликования в париж. газете “Фигаро” 20 февр. 1909… … Энциклопедия культурологии
Из манифеста русских футуристов «Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства» (1912), написанного поэтами Д. Д. Бур люком (1882 1967), А. Е. Крученых (1886 1968), В. В. Маяковским (1893 1930) и В. В. Хлебниковым (1885 1922). В… … Словарь крылатых слов и выражений
- — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… … Большая биографическая энциклопедия
Давид Давидович (1882–) поэт и художник, примыкавший к футуризму (см.). Стихи Б. помещались в сборниках: «Дохлая луна» (М., 1913); «Затычка» (Херсон, 1913); «Пощечина общественному вкусу» (СПБ., 1913); «Требник троих» (М., 1913). Литературная… … Литературная энциклопедия
Мединский, Владимир - Министр культуры РФ Министр культуры РФ, член Высшего совета Единой России с мая 2012 года. Был депутатом Государственной думы четвертого и пятого созывов, в октябре декабре 2011 года возглавлял думский комитет по культуре. Писатель публицист,… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Велимир Хлебников - Биография Велимира Хлебникова Велимир (настоящее имя Виктор Владимирович) Хлебников родился 9 ноября (28 октября по старому стилю) 1885 года в ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии России (ныне село Малые Дербеты, Калмыкия) в семье … Энциклопедия ньюсмейкеров
Книги
- Стихотворения (1922 - февраль 1923) , Владимир Владимирович Маяковский. Стихи Маяковского были впервые опубликованы в 1912 в альманахе группы "Гилея""Пощечина общественному вкусу", где был помещен и манифест, подписанный Маяковским, В. В. Хлебниковым, А. Е.…
Составил C. Джимбинов, Издательский дом Согласие, Москва 2000
ФУТУРИЗМ
20 февраля 1909 года на первой странице французской газеты «Фигаро» был напечатан странный текст в виде платного объявления - «Обоснование и манифест футуризма», подписанный Филиппо Томазо Маринетти. Вот некоторые отрывки из этого текста: «Мы воспоем войну - единственную подлинную гигиену мира, воспоем милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархиста, прекрасные идеи, которые убивают, и презрение к женщине»; «Мы разрушим музеи, библиотеки и будем воевать против морали, против феминизма и всяческой утилитарной трусости».
Все это лишь весьма отдаленно напоминает русский футуризм, к тому же разделившийся на три различные группировки:
1) московские кубофутуристы, они же «будетляне», они же группа «Гилея» - последнее название предложил Б. Лившиц, нашедший это слово в «Истории» Геродота, где так названа местность в Скифии за устьем Днепра. Именно в этом месте на Украине находилось имение Чернянка, где отец трех братьев Бурлюков работал управляющим. Группа «Гилея» была создана уже через год после манифеста Маринетти, в 1910 году В нее входили Давид Бурлюков (организатор), В. Хлебников (главный теоретик), В. Маяковский, В. Каменский, А. Крученых. Кубофутуристы «Гилеи» издали сборники «Пощечина общественному вкусу» (1913), «Дохлая луна» (1913), «Молоко кобылиц» (1914), «Взял» (1915) и другие. По творческим установкам гилейцам были близки художественные группировки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»;
2) петербургская группа эгофутуристов во главе с Игорем Северяниным возникла позже московских кубофутуристов, в 1911 году. В ее состав входили, помимо Северянина, Иван Игнатьев, Константин Олимпов (сын поэта К. Фофанова), Василиск Гнедов. Вскоре образовался и московский филиал эгофутуристов, по имени своего издательства получивший название «Мезонин поэзии». В него входили К. Большаков, а также В. Шершеневич и Р. Ивнев, после 1919 года перешедшие в литобъединение имажинистов. У петербургских футуристов было свое издательство - «Петербургский глашатай», но их сборники - «Орлы над пропастью», «Всегдай» и др. - имели несравненно меньший резонанс, чем сборники московских кубофутуристов из «Гилеи»;
3) московская группа «Центрифуга» возникла еще позже, в 1913 году, при символистском кружке «Лирика», в состав которого входили С. Бобров, Н. Асеев и Б. Пастернак. К ним потом присоединились поэты-футуристы Константин Большаков, Василиск Гнедов, Божидар (Б. Гордеев). Часть поэтов этой группы (Н. Асеев, Б. Пастернак) затем вошла в Леф.
ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ
Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы - лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин - непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. - нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. (Слово - новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
Д. БУРЛЮК. Александр КРУЧЕНЫХ. В. МАЯКОВСКИЙ. Виктор ХЛЕБНИКОВ.
1912
СЛОВО КАК ТАКОВОЕ
О художественных произведениях
1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание, В. Хлебников, А. Крученых, Е. Гуро; в живописи В. Бурлюк и О. Розанова).
2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая. В поэзии Д Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк и Б. Лившиц, в живописи Бурлюк, К. Малевич).
У писателей до нас инструментовка была совсем иная, например:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...
Здесь окраску дает бескровное пе... пе... Как картины, писанные киселем и молоком, нас не удовлетворяют и стихи, построенные на
па-па-па
пи-пи-пи
ти-ти-ти
и т. п.
Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звука и словосочетания:
дыр, бул, щыл,
убещур
скум
вы со бу
р л эз
(Кстати, в этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина).
Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод.
Так идите же за мной...
За моей спиной
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы.
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту.
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь.
(Д. Бурлюк)
До нас предъявлялись следующие требования языку: ясный, чистый, честный, звучный, приятный (нежный) для слуха, выразительный (выпуклый, колоритный, сочный).
Впадая в вечно игривый тон наших критиков, можно их мнения о языке продолжить, и мы заметим. что все их требования (о, ужас!) больше приложимы к женщине как таковой, чем к языку как таковому.
В самом деле: ясная, чистая (о, конечно!) честная. (гм!.. гм!..), звучная, приятная, нежная (совершенно правильно!), наконец, сочная, колоритная вы... (кто там? Входите!).
Правда, в последнее время женщину старались превратить в вечно женственное, прекрасную даму, и таким образом юбка делалась мистической (это не должно смущать непосвященных, - тем более!..). Мы же думаем, что язык должен быть прежде всего языком, и если уж напоминать что-нибудь, то скорее всего пилу или отравленную стрелу дикаря.
Из вышеизложенного видно, что до нас речетворцы слишком много разбирались в человеческой «душе» (загадке духа, страстей и чувств), но плохо знали, что душу создают баячи, а так как мы, баячи будетляне, больше думали о слове, чем об затасканной предшественниками «Психее», то она умерла в одиночестве, и теперь в нашей власти создать любую новую... Захотим ли?
Пусть уж лучше поживут словом как таковым, а не собой. Так разрешаются (без цинизма) многие роковые вопросы отцов, коим и посвящаю следующее стихотворение:
поскорее покончить
недостойный водевиль -
о, конечно
этим никого не удивишь.
жизнь глупая шутка и сказка
старые люди твердили...
нам не нужно указки
и мы не разбираемся в этой гнили...
Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык (см. подробнее об этом в моей статье «Новые пути слова») (в книге «Трое»). Этот выразительный прием чужд и непонятен выцветшей литературе до нас, а равно и напудренным эгопшютистам (см. «Мезонин поэзии»).
Любят трудиться бездарности и ученики. (Трудолюбивый медведь Брюсов, пять раз переписывавший и полировавший свои романы Толстой, Гоголь, Тургенев), это же относится и к читателю.
Речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав, разорви!
А. КРУЧЕНЫХ и В. ХЛЕБНИКОВ
1913
САДОК СУДЕЙ
Находя все нижеизложенные принципы цельно выраженными в первом «Садке судей» и выдвинув ранее пресловутых и богатых, лишь в смысле Метцль и К°, футуристов, - мы, тем не менее, считаем этот путь нами пройденным и, оставляя разработку его тем, у кого нет более новых задач, пользуемся некоторой формой правописания, чтобы сосредоточить общее внимание на уже новых открывающихся перед нами заданиях.
Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны в следующем порядке:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
a) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания;
b) в почерке полагая составляющую поэтического импульса;
c) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «самописьма».
6. Нами уничтожены знаки препинания, - чем роль словесной массы - выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные - краска, звук, запах.
8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер - живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках - всякое движение рождает новый свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма - (Давид Бурлюк); средняя, обратная рифма (В. Маяковский) разработаны нами.
10. Богатство словаря поэта - его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности - воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
Мы новые люди новой жизни.
Давид БУРЛЮК, Елена ГУРО, Николай БУРЛЮК, Владимир МАЯКОВСКИЙ, Екатерина НИЗЕН, Виктор ХЛЕБНИКОВ, Венедикт ЛИВШИЦ, А. КРУЧЕНЫХ.
1914
Н. БУРЛЮК при участии Д. БУРЛЮКА
ПОЭТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА
Так на холcтe каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
В. Хлебников
Предпосылкой нашего отношения к слову как к живому организму является положение, что поэтическое слово чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости оттого, написано ли оно, или напечатано, или мыслится. Оно воздействует на все наши чувства. Ранее, когда мы говорили «дерево», мы должны были этим логическим обобщением возбудить воспоминание о каком-нибудь определенном дереве, и тогда прочувствовано уже воспоминание. Теперь - путь созерцания эстетических ценностей.
В связи со сказанным, слово лишь настолько имеет значения для передачи предмета, насколько представляет хотя бы часть его качеств. В противном случае оно является лишь словесной массой и служит поэту вне значения своего смысла. Мы можем отказаться от слова как жизнедеятеля и тогда им воспользоваться как мифотворцем.
Прежде всего нужно различать авторский почерк, почерк переписчика и печатные шрифты. Иные слова никогда нельзя печатать, так как для них нужен почерк автора. В последнее время это отчасти поняли, например, стали фамилию автора передавать в его почерке.
Понятно, какую громадную ценность для истинного любителя являют автографы сочинений. «Литературная компания» выпустила писанные от руки книги.
О роли шрифта я не стану говорить, так как это для всех очевидно.
Громадное значение имеет расположение написанного на бумажном поле. Это прекрасно понимали такие утонченные александрийцы, как Аполлоний Родосский и Каллимах, располагавшие написанное в виде лир, ваз, мечей и т. п.
Теперь о виньетке. Вы все помните дюреровскую «Меланхолию», где не знаешь конца надписи и начала гравюры. Еще более показателен Гоген. «Soyez amoureuses vous serez heureuses», «Soyez mysterieuses» и т. д. Это элизиум вокабул, где буквенные завитки оплакивают свое прошлое... Моей мечтой было всегда, если бы кто-нибудь изучил графическую жизнь письмен, этот «голос со дна могилы» увлечения метафизикой. Сколько знаков нотных, математических, картографических и проч. в пыли библиотек Я понимаю кубистов, когда они в свои картины вводят цифры, но не понимаю поэтов, чуждых эстетической жизни всех этих ±, §, #, &, $ и т. д.
Раньше больше понимали жизнь письмен, откуда же не чувствуемое теперь нами различие между большими и малыми буквами, особенно в немецком. Возьмите рукописные книги XIV-XV веков, с какой любовью там наравне с миниатюрами украшается и усиливается буква, а наши церковные книги - даже восемнадцатого столетия. Здесь я должен указать на светлую жизнь Федорова, московского ученого (недавно умершего). Он в тяжелую эпоху символизма и «декадентства» тщетно указывал на роль в эстетике письмен.
Соотношение между цветом и буквой не всегда понималось как окрашивание. В иероглифах цвет был так же насущен, как и графическая сторона, т. е. знак был цветное пятно. Если вы помните, Эгейское море обязано черному флагу, а наши моряки до сих пор во власти цветного флага. При переходе от вещевого (письма) через символическое к звуковому письму мы утеряли скелет языка и пришли к словесному рахитизму. Только глубокий вкус спас наших переписчиков и маляров при окрашивании заглавных букв и надписей на вывесках. Часто только варварство может спасти искусство.
Уже в 70-х годах во Франции Jean-Arthur Rimbaud написал свое Voyelles, где пророчески говорит:
A noir, E blanc, J rouge, U vert, О bleu: voyelles
Je dirai quelque jour vos naissances latentes...
(Артюр Рембо. Гласные: «А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый, «О» голубой - цвета причудливой загадки... Пер. с фр.)
Запах и слово. Я молод и не имею коллекции надушенных женских писем, но вы, стареющие эротоманы, можете поверить аромату. Надушенное письмо женщины говорит больше в ее пользу, чем ваш пахнущий сигарой фрак. Кажется, японцы и китайцы душат книги, так что книга обладает своим языком благовония.
Когда я еще был херсонским гимназистом, для меня являлось большим удовольствием ходить по старому, екатерининских времен, кладбищу и читать надгробные надписи, звучавшие различно на камне или на меди.
«... Корсаков
он строил город сей и осаждал Очаков».
Стремясь передать третье измерение букв, мы не чужды ее скульптуры.
Возможно ли словотворчество и в каком размере? Где искать критерия красоты нового слова? Создание слова должно идти от корня или случайно?
Теоретически отвечая на первый вопрос, скажу что возможно до бесконечности. На практике, конечно, немного иначе: слово связано с жизнью мифа и только миф создатель живого слова. В связи с этим выясняется второй ответ: критерий красоты слова - миф. Как пример истинного словотворчества, я укажу «Мирязь» Хлебникова, словомиф, напечатанный в недавно вышедшей «Пощечине общественному вкусу». Я не буду распространяться о взаимоотношении между мифом и словом. Корневое слово имеет меньше будущего - чем случайное. Чересчур все прекрасное случайно (см. философия случая). Различна судьба двух детищ случая: рифма в почете, конечно, заслуженном, оговорка же, lapsus linguae, - этот кентавр поэзии - в загоне.
Меня спрашивают, национальна ли поэзия? - Я скажу, что все арапы черны, но не все торгуют сажей, - и потом еще - страусы прячутся под кустами (Strauch). Да. Путь искусства через национализацию к космополитизму.
Я еще раз должен напомнить, что истинная поэзия не имеет никакого отношения к правописанию и хорошему слоту, - этому украшению письмовников, аполлонов, нив и прочих общеобразовательных «органов». Ваш язык для торговли и семейных занятий.
ФУТУРИЗМ
Н. БУРЛЮК
SUPPLEMENTUM К ПОЭТИЧЕСКОМУ КОНТРАПУНКТУ
Мы немы для многих чувств, мы переросли корсеты петровской азбуки. Поэтому я заканчиваю свое краткое обозрение задач нового искусства призывом к созданию новой азбуки, для новых звуков. Многие идеи могут быть переданы лишь идеографическим письмом.
Многие слова оживут в новых очертаниях. В то время, как ряд звуковых впечатлений создал нотное письмо, в то время, как научные дисциплины полнятся новыми терминами и знаками, мы в поэтическом языке жмемся и боимся нарушить школьное правописание. Искусство ошибки также оттеняет созидаемое, как и академический язык.
Если мы изжили старое искусство, если для не всех стало ясно, что это - слово, но не речь, то это вина педантизма и кастрации духа творивших его. Нужно помнить, что для нашего времени и для нашей души необходим другой подход к словесному искусству, к приемам выразительности. Наша же азбука, наш поэтический лексикон, наша фразеология создались исторически, но не по законам внутренней необходимости. Словесная жизнь тождественна естественной, в ней также царят положения вроде дарвиновских и дефризовских. Словесные организмы борются за существование, живут, размножаются, умирают. До сих пор филология была любовью к анекдоту к истории быта и философии, но не к слову. Напрасны призывы Шахматова, Бодуэна де Куртенэ и немногих других к истинному пониманию ее задач. Школьная схема делает свое и для 9/10 филологов язык - не живой, изменчивый организм, а механизм, в словарях и учебных пособиях. Я вполне понимаю А Франса, когда он восстает против преподавания грамматики и теории словесности, ибо даже во Франции до сих пор не создано правильного пути в понимании жизни языка.
Резюмируя вышесказанное, мы придем к определению: слово и буква (звучащая) - лишь случайные категории - общего неделимого.
1914
ТРУБА МАРСИАН
Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (3 оси места). Мы приклеиваем, возделываем мозг человечества, как пахари этому щенку 4-ю ногу, именно - ось времени.
Хромой щенок. Ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем. Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства.
Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени, предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача храбра, величественна и сурова. Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач.
Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пяту. Ведь мы босы. (Ошибка в согласной). Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому, едва только оно вступило в возраст победы и в неуклонном бешенстве заноса очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от нашего топота.
Черные паруса времени, шумите!
Виктор ХЛЕБНИКОВ, Мария СИНЯКОВА, БОЖИДАР, Григорий ПЕТНИКОВ, Николай АСЕЕВ.
Кн-во «Лирень» 110 день Кальпы.
В. МАЯКОВСКИЙ
КАПЛЯ ДЕГТЯ
Речь, которая будет произнесена при первом удобном случае
Милостивые государи и милостивые государыни!
Этот год - год смертей: чуть не каждый день громкой скорбью рыдают газеты по ком-нибудь маститом, до срока ушедшем в лучший мир. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен, вырезанных Марсом. Какие благородные и монашески-строгие выходят сегодня газеты! В черных траурных платьях похоронных объявлений, с глазами, блестящими кристальной слезой некролога. Вот почему было как-то особенно неприятно видеть, что эта самая облагороженная горем пресса подняла такое непристойное веселье по поводу одной, очень близкой мне смерти. Когда запряженные цугом критики повезли по грязной дороге, дороге печатного слова, гроб футуризма, недели трубили газеты: «хо-хо-хо, так его!.. вези! вези! вези!.. наконец-то!».- (Страшное волнение аудитории: «как умер?- футуризм умер?.. да что вы!»).
Да, умер.
Вот уже год вместо огнесловного, еле лавирующего между правдой, красотой и участком, на эстрадах аудиторий пресмыкаются скучнейшие когано-айхенвальдообразные старики - год уже в аудиториях скучнейшая логика, доказывание каких-то воробьиных истин, вместо веселого звона графинов по пустым головам.
Господа! Да неужели вам не жалко этого взбалмошного в рыжих вихрах детину, немного неумного, немного некультурного, но всегда, о, всегда смелого и горящего? Впрочем, как вам понять молодость. Молодые, которым мы дороги, еще не скоро вернутся с поля брани; вы же, оставшиеся здесь для спокойного занятия в газетах и проч. конторах; вы - или неспособные носить оружие рахитики, или старые мешки, набитые морщинами и сединами, дело которых думать о наиболее безмятежном переходе в другой мир, а не о судьбах русского искусства. А знаете, я и сам не очень-то жалею покойника, правда, из других соображений.
Оживите в памяти первый гала-выход российского футуризма, ознаменованный такой звонкой «пощечиной общественному вкусу». Из этой лихой свалки особенно запомнились три удара под тремя криками нашего манифеста:
1) смять мороженицу всяческих канонов, делающую лед из вдохновенья;
2) сломать старый язык, бессильный догнать скач жизни;
3) сбросить старых великих с парохода современности.
Как видите, ни одного здания, ни одного благоустроенного утла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели, как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось «дьявольской интуицией», воплощенной в бурном «сегодня». Война, расширяя границы государств и мозг, заставляет врываться в границы вчера неведомого.
Художник! Тебе ли тоненькой сеточкой контура поймать несущуюся кавалерию! Репин! Самокиш! Уберите ведра - расплещет. Поэт. Не сажай в качалку ямбов и хореев мощный бой, всю качалку разворотит.
Изламывание слов, словоновшество. Сколько их новых во главе с Петроградом. А кондуктрисса! Умрите, Северянин! Футуристам ли кричать о забвении старой литературы. Кто за казачьим гиком расслышит трель мандолиниста Брюсова?
Сегодня - все футуристы! Народ - футурист!
Футуризм мертвой хваткой взял Россию.
Не видя футуризма перед собой и не умея заглянуть в себя, вы закричали о смерти. Да, футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в мощь проповеди.
1915
Алексей Крученых
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАУМНОГО ЯЗЫКА
1. Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег кайд и т. д.).
2. Заумь - первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии. Сперва - ритмически-музыкальное волнение, празвук (поэту надо бы записывать его, потому что при дальнейшей работе может позабыться).
3. Заумная речь рождает заумный праобраз (и обратно) - неопределимый точно, например: бесформенные бука, Горго, Мормо; Туманная красавица Иллайяли; Авоська да Небоська и т. д.
4. К заумному языку прибегают:
a) когда художник дает образы еще не вполне определившиеся (в нем или вовне);
b) когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть - заумная характеристика: он какой-то эдакий, у него четырехугольная душа, - здесь обычное слово в заумном значении. Сюда же относятся выдуманные имена и фамилии героев, названия народов, местностей, городов и проч., например: Ойле Блеяна, Мамудя, Вудрас и Барыба, Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др. (но не аллегорические, как-то: Правдин, Глупышкин, - здесь ясна и определенна их значимость);
c) когда теряют рассудок (ненависть, ревность, буйство)...
d) когда не нуждаются в нем - религиозный экстаз, мистика, любовь. (Глосса, восклицания, междометия, мурлыканья, припевы, детский лепет, ласкательные имена, прозвища, - подобная заумь имеется в изобилии у писателей всех направлений.)
5. Заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным. От смысла слово сокращается, корчится, каменеет, заумь же дикая, пламенная, взрывная (дикий рай, огненные языки, пылающий уголь).
6. Заумь - самое краткое искусство, как по длительности пути от восприятия к воспроизведению, так и по своей форме, например: Кубоа (Гамсун), Хо-бо-ро и др.
7. Заумь - самое всеобщее искусство, хотя происхождение и первоначальный характер его могут быть национальными, например: Ура, Эван - эвое и др.
Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, рожденный органически, а не искусственно, как эсперанто.
| сегодня: 14/03/2010 |  | статья: 11/02/2004 |
Поэзия Проза Литературная критика Библиотечка "эгоиста" Создан для блаженства Онтологические прогулки Искусство Жизнь как есть Лаборатория слова В дороге
Литературная критика
Москва: Изд. Г.Л. Кузьмина, . Типо-литография т.д. “Я. Данкин и Я. Хомутов”, Москва, Б. Никитская. 9. Телеф. 199-26. 112, с., в издательской обложке, обтянутой мешковиной. 25x19 см. Тираж 600 экз. «Пощёчина» - первый поэтический сборник кубофутуристов (петербургская поэтическая группа «Гилея»), вышедший 18 декабря 1912 года. Наиболее известен благодаря сопровождавшему его одноимённому манифесту. В сборнике были опубликованы стихи всех поэтов-кубофутуристов - Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского (дебют), Давида Бурлюка, Алексея Кручёных, Василия Каменского, Бенедикта Лившица. Прилагавшийся к сборнику манифест, через четыре месяца повторно выпущенный уже как листовка, отрицал все прежние эстетические ценности и в нарочито эпатажной форме заявлял о разрыве с существующей литературной традицией. Из семи авторов сборника (Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Б. Лившиц, Н. Бурлюк, В. Кандинский) манифест "в защиту нового искусства" подписали четверо первых. Текст манифеста был сочинён в течение одного дня в гостинице «Романовка» в Москве.

Библиографические источники:
1. Поляков, № 17.
2. The Russian avant-garde book/1910-1934 (Judith Rothschild foundation, № 12), р. 63;
3. Лесман, №№ 1835 (экз. А. Блока), 1836;
4. Хачатуров. с. 42;
5. Compton. р. 125;
6. Розанов, № 4959;
8. Марков. с. 43-48;
9. Жевержеев, № 2244;
10. Кн. л. 1913. № 1776;
11. Лившиц. с. 106-109;
12. Москва-Париж. с. 248;
13. Марков В.Ф. "История русского футуризма", СПб., 2000;
"Литературные манифесты от символизма до наших дней", М., 2000.




 Именно этому сборнику удалось достичь того, на что рассчитывали издатели “Садка судей”, - привлечь всеобщее внимание. После выхода в свет он вызвал настоящий вал отзывов и отрицательных рецензий в прессе. Позднее они были собраны Б. Лившицем в специальной статье “Позорный столб российской критики: Материал для истории литературных нравов” в “Первом журнале русских футуристов”. Большую часть сборника занимают произведения Хлебникова: “Девий бог” (с. 9-33), “Памятник” (с. 33-36), “И и Э” (с. 36-40), “Бегство. Алферово” (с. 47-51), “Конь Пржевальского” (с. 51-53), ряд стихотворений, в т.ч. “Бобэоби”. Несколькими стихотворениями представлены Маяковский (“Ночь” и “Утро”, с. 91-92) и Крученых (“Старые щипцы заката”, с. 87-88). Лившиц поместил вызвавшее наибольшее количество нападок в прессе стихотворение “Люди в пейзаже” (с. 63-64), вдохновленное картиной Экстер. С необычайно выразительной прозой, воспевающей страну “покинутых храмов и жертвенников”, выступил Н. Бурлюк, впервые, таким образом, обнародовав факт существования Гилеи - мифической родины будетлян (“Тишина Эллады”, с. 69-70). Ему же принадлежат два рассказа “Смерть легкомысленного молодого человека” (с. 67-69) и “Солнечный дом” (с. 70-73). Последний почти буквально предвещает стилистику известного фильма А. Хичкока “Птицы”. Сборник вышел из печати 18 декабря 1912 г. Полное название
манифеста русских футуристов (декабрь, 1912), написанного поэтами Давидом Давидовичем Бурлюком (1882-1967), Алексеем Елисеевичем Крученых (1886-1968), Владимиром Владимировичем Маяковским (1893-1930) и Велемиром Владимировичем Хлебниковым (1885-1922), а также альманаха (1912), предисловием к которому он послужил: Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства. Текст манифеста "
Пощёчина общественному вкусу":
Именно этому сборнику удалось достичь того, на что рассчитывали издатели “Садка судей”, - привлечь всеобщее внимание. После выхода в свет он вызвал настоящий вал отзывов и отрицательных рецензий в прессе. Позднее они были собраны Б. Лившицем в специальной статье “Позорный столб российской критики: Материал для истории литературных нравов” в “Первом журнале русских футуристов”. Большую часть сборника занимают произведения Хлебникова: “Девий бог” (с. 9-33), “Памятник” (с. 33-36), “И и Э” (с. 36-40), “Бегство. Алферово” (с. 47-51), “Конь Пржевальского” (с. 51-53), ряд стихотворений, в т.ч. “Бобэоби”. Несколькими стихотворениями представлены Маяковский (“Ночь” и “Утро”, с. 91-92) и Крученых (“Старые щипцы заката”, с. 87-88). Лившиц поместил вызвавшее наибольшее количество нападок в прессе стихотворение “Люди в пейзаже” (с. 63-64), вдохновленное картиной Экстер. С необычайно выразительной прозой, воспевающей страну “покинутых храмов и жертвенников”, выступил Н. Бурлюк, впервые, таким образом, обнародовав факт существования Гилеи - мифической родины будетлян (“Тишина Эллады”, с. 69-70). Ему же принадлежат два рассказа “Смерть легкомысленного молодого человека” (с. 67-69) и “Солнечный дом” (с. 70-73). Последний почти буквально предвещает стилистику известного фильма А. Хичкока “Птицы”. Сборник вышел из печати 18 декабря 1912 г. Полное название
манифеста русских футуристов (декабрь, 1912), написанного поэтами Давидом Давидовичем Бурлюком (1882-1967), Алексеем Елисеевичем Крученых (1886-1968), Владимиром Владимировичем Маяковским (1893-1930) и Велемиром Владимировичем Хлебниковым (1885-1922), а также альманаха (1912), предисловием к которому он послужил: Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства. Текст манифеста "
Пощёчина общественному вкусу":
Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы - лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода Современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. - нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!
Мы приказываем чтить права поэтов:
1). На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).
2). На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3). С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.
4). Стоять на глыбе слова "мы" среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших "здравого смысла" и "хорошего вкуса", то все же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
Москва, 1912. Декабрь Д. БУРЛЮК, Александр КРУЧЕНЫХ, В. МАЯКОВСКИЙ, Виктор ХЛЕБНИКОВ.
(Имя Александр входило в псевдоним Крученых под манифестом в Пощечине общественному вкусу и в сборнике Трое, потом поэт стал использовать свое настоящее имя Алексей или заглавную букву А. Иногда (например, в Декларации слова как такового) он ставил имя Александр в скобках после Алексея).




У Бенедикта Лифшица в «Полутораглазом стрельце» (Л., 1933) читаем:
С ноября 1912 года начались мои частые наезды в столицу. С целью продолжить там свое пребывание, я брал отпуск не у ротного, а у батальонного, имевшего право своей властью разрешать недельную отлучку из гарнизона. На Рождество я снова приехал в Петербург. «Пощечина общественному вкусу», к этому времени уже отпечатанная в Москве, вот-вот должна была поступить в продажу. И оберточная бумага, серая и коричневая, предвосхищавшая тип газетной бумаги двадцатого года, и ряднинная обложка, и самое заглавие сборника, рассчитанные на ошарашивание мещанина, били прямо в цель. Главным же козырем был манифест. Из семи участников сборника манифест подписали лишь четверо: Давид Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников. Кандинский был в нашей группе человеком случайным, что же касается Николая Бурлюка и меня, нас обоих не было в Москве. Давид, знавший о моем последнем уговоре с Колей, не решился присоединить наши подписи заочно. И хорошо сделал. Я и без того был недоволен тем, что мне не прислали материала в Медведь, хотя бы в корректуре, текст же манифеста был для меня совершенно неприемлем. Я спал с Пушкиным под подушкой - да я ли один? Не продолжал ли он и во сне тревожить тех, кто объявлял его непонятнее гиероглифов? - и сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым, с «парохода современности» мне представлялось лицемерием. Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля: наряду с предельно «индустриальной» семантикой «парохода современности» и «высоты небоскребов» (не хватало только «нашего века пара и электричества»!) - вынырнувшие из захолустно провинциальных глубин «зори неведомых красот» и «зарницы новой грядущей красоты». Кто составлял пресловутый манифест, мне так и не удалось выпытать у Давида: знаю лишь, что Хлебников не принимал в этом участия (его, кажется, и в Москве в ту пору не было). С удивлением наткнулся я в общей мешанине на фразу о «бумажных латах брюсовского воина», оброненную мною в ночной беседе с Маяковским и почему-то запомнившуюся ему, так как только он мог нанизать ее рядом с явно принадлежавшими ему выражениями вроде «парфюмерного блуда Бальмонта», «грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми», «сделанного из банных веников венка грошовой славы», и уже типичным для него призывом «стоять на глыбе слова мы среди моря свиста и негодования».




Однако при всех оговорках, относившихся главным образом к манифесту, самый сборник следовало признать боевым хотя бы по одному тому, что ровно половина места в нем была отведена Хлебникову. И какому Хлебникову! После двух с половиной лет вынужденного молчания (ведь ни один журнал не соглашался печатать этот «бред сумасшедшего») Хлебников выступил с такими вещами, как «Конь Пржевальского», «Девий бог», «Памятник», с «повестью каменного века» «И и Э», с классическими по внутренней завершенности и безупречности формы «Бобэоби», «Крылышкуя золотописьмом», а в плане теоретическом - с «Образчиком словоновшеств в языке» и загадочным лаконическим «Взором на 1917 год», в котором на основании изучения «законов времени» предрекал в семнадцатом году наступление мирового события. По сравнению с Хлебниковым, раздвигавшим возможности слова до пределов, ранее немыслимых, все остальное в сборнике казалось незначительным, хотя в нем были помещены и два стихотворения Маяковского, построенные на «обратной» рифме, и прелестная, до сих пор не оцененная проза Николая Бурлюка, и его же статья о «Кубизме», ставившая ребром наиболее острые вопросы современной живописи. Не таким рисовался мне наш первый «выпад», когда мы говорили о нем еще в ноябре, но - сделанного не воротишь, и потом, Хлебников искупал все грехи, примирял меня со всеми промахами Давида. Кроме того, ошибку можно было исправить в ближайшем будущем, так как через месяц, самое большее через полтора, предполагалось выпустить второй «Садок Судей», и мне в этот же приезд предстояло уговориться обо всем с М. В. Матюшиным и Е. Г. Гуро, вкладывавшими, по словам Давида, душу в издание сборника. В самый канун Рождества я отправился к ним, на Песочную, с моим неразлучным спутником, Николаем Бурлюком. Гуро я знал только по «Шарманке» да по вещам, помещенным в первом «Садке Судей», и, хотя не разделял восторгов моих друзей, все же считал необходимым познакомиться с ней поближе. Очутившись в деревянном домике с шаткой лесенкой, уводившей во второй этаж, я почувствовал себя точно в свайной постройке.





Мне сразу стало не по себе: я впервые ощутил вес собственного тела в бесконечно разреженной атмосфере, стеснявшей мои движения, вопреки жюльверновским домыслам о пребывании человека на Луне. Я не отдавал себе отчета в том, что со мною происходит, не понимал, чем вызывается эта чисто биологическая реакция всего организма, отталкивавшегося от чуждой ему среды, я только с невероятной остротою вдруг осознал свою принадлежность к нашей планете, с гордостью истого сына Земли принял свою подвластность законам земного тяготения. Этим самым я раз навсегда утратил возможность найти общий язык с Гуро. Ее излучавшаяся на все окружающее, умиротворенная прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью, была безмолвным вызовом мне, усматривавшему личную обиду в существовании запредельного мира. Бедный Коля Бурлюк, неизвестно почему считавший себя в какой-то мере ответственным за нашу встречу, чрезвычайно упрощенно истолковал эту взаимную платоническую ненависть. По его мнению, вся беда заключалась в том, что, «француз до мозга костей», я вдруг оказался - слегка перевирая Северянина - «в чем-то норвежском, в чем-то финляндском». Дело, конечно, было не в одном этом. Не в хрупкой, на тающий ледок похожей голубизне больничных стен; не в тихой мелодии обескровленных слов, которыми Гуро пыталась переводить свое астральное свечение на разговорный язык (о, эти «чистые», о, эти «робкие», «застенчивые», «трогательные», «непорочные», «нежные», «чуткие» - меня взрывала смесь Метерлинка с Жаммом, разведенная на русском киселе, я понимал ярость молодого Рембо, взбешенного «Намуной»); не в этих высохших клопиных трупиках, хлопьями реявших вокруг меня, не в уныло-худосочной фата-моргане, где даже слово «Усикирко» казалось родным, потому что воробьиным чириканьем напоминало о земле, -не в одном этом, повторяю, было дело. Столкнулась физика с метафизикой в том пежоративном смысле, какой теперь сообщается этому термину, ясно наметился водораздел между тяготением к потустороннему и любовью к земному: разверзлась пропасть, на одном краю которой агонизировал уже выдохшийся символизм, а на краю противоположном - братались и грызлись еще в материнском чреве завтрашние друго-враги, будетляне и акмеисты. Гуро, которой оставалось жить каких-нибудь четыре месяца, так и посмотрела на меня как на человека с другого берега. Я не мог бы заподозрить ее во враждебном ко мне отношении, все в ней было тихость и благость,- но она замкнулась наглухо, точно владела ключом к загадкам мира, и с высоты ей одной ведомых тайн кротко взирала на мое суемудрое копошенье. Я еще не знал тогда, какие глубокие личные причины заставили Елену Генриховну переключиться в этот непонятный мне план, какие сверхчеловеческие усилия прилагала она, чтобы сделать бывшее небывшим и сообщить реальность тому, что навсегда ушло из ее жизни. Я судил ее только с узкопрофессиональной точки зрения и не догадывался ни о чем. Тем удивительнее показалась мне теплота, с которой и она, и Матюшин говорили о Крученых, доводившем до абсурда своим легкомысленным максимализмом (вот уж кому, поистине, терять было нечего!) самые крайние наши положения. Только равнодушие к стихии слова (у Гуро, вероятно, подсказанное пренебрежением к нему как к рудиментарной форме проявления вовне человеческого «я», у Крученых - должно быть, вызванное сознанием полной беспомощности в этой области) могло, на мой взгляд, породить эту странную дружбу: во всем остальном у них не было ничего общего.




А вот что позднее вспоминал Алексей Крученых об историческом моменте по поводу «Пощечины»:

 Бурлюк ‹же› познакомил меня в Москве с Маяковским. Вероятно, это было в самом начале 1912 г., где и как - точно не помню. Ничего не могу сказать и о нашей первой встрече. Позже я постоянно видел Маяковского в Школе живописи и ваяния - в столовке, в подвале. [Там он обжирался компотом и заговаривал насмерть кассиршу, подавальщиц и посетителей.] Владимир Маяковский. С групповой фотографии на листовке «Пощёчина общественному вкусу». Маяковский того времени - ещё не знаменитый поэт, а просто необычайно остроумный, здоровенный парень лет 18–19, учившийся живописи, носил длинные до плеч чёрные космы, грозно улыбался. Рот у него был слегка завалившийся, почти беззубый, так что многие знакомые уже тогда звали его в шутку “стариком”. Ходил он постоянно в одной и той же бархатной чёрной рубахе [имел вид анархиста-нигилиста]. Помню наше первое совместное выступление, “первый бой” в начале 1912 г. на диспуте «Бубнового валета», где Маяковский прочёл целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет - оно многообразно, диалектично.
Бурлюк ‹же› познакомил меня в Москве с Маяковским. Вероятно, это было в самом начале 1912 г., где и как - точно не помню. Ничего не могу сказать и о нашей первой встрече. Позже я постоянно видел Маяковского в Школе живописи и ваяния - в столовке, в подвале. [Там он обжирался компотом и заговаривал насмерть кассиршу, подавальщиц и посетителей.] Владимир Маяковский. С групповой фотографии на листовке «Пощёчина общественному вкусу». Маяковский того времени - ещё не знаменитый поэт, а просто необычайно остроумный, здоровенный парень лет 18–19, учившийся живописи, носил длинные до плеч чёрные космы, грозно улыбался. Рот у него был слегка завалившийся, почти беззубый, так что многие знакомые уже тогда звали его в шутку “стариком”. Ходил он постоянно в одной и той же бархатной чёрной рубахе [имел вид анархиста-нигилиста]. Помню наше первое совместное выступление, “первый бой” в начале 1912 г. на диспуте «Бубнового валета», где Маяковский прочёл целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет - оно многообразно, диалектично.



Он выступал серьёзно, почти академически. Я в тот вечер был оппонентом по назначению, “для задирки”, и ругал и высмеивал футуристов и кубистов. Мысль, которой я держался в своём возражении, была очень проста, и мне было легко не сбиться и не запутаться. Я указывал, что раз искусство многообразно, то, значит, оно движется вперед вместе с прогрессом, и, следовательно, современные нам формы должны быть совершеннее форм предыдущих веков. Куда я гнул, было понятно самому недалекому уму.

Дело в том, что Маяковский и другие докладчики на этом диспуте делали экскурсы в отдалённые эпохи и сравнивали современное искусство с примитивами, а в особенности с наивными произведениями дикарей. При этом само собой подразумевалось, что примитивы и дикари давали самые совершенные формы. И вот я объявлял это ретроградством - сравнивать себя с дикарями и восторгаться их искусством. Я бранил и бубнововалетчиков, и кубистов, от живописи перешёл к поэзии и здесь разделал под орех всех новаторов. В аудитории царили восторг и недоумение. А я поддавал жару. О чудачествах новаторов я спросил:
Не правда ли, они до чортиков дописались. Например, как вам понравится такой образ: „разочарованный лорнет”?
Публика в смех. Тогда я разоблачил:
Это эпитет из «Евгения Онегина» Пушкина!

Публика в аплодисменты. Показав таким образом, что наши ругатели сами не знали толком, о чем идёт речь, я покрыл их заодно с “поверженными” мною кубистами. Выступал с громким эффектом, держался свободно, волновался только внутренне. Это был первый диспут «Бубнового валета». Бурлюк, Маяковский и я после этого предложили «Бубновому валету» (Кончаловскому, Лентулову, Машкову и др.) издать книгу с произведениями “будетлян”. Название книги было «Пощёчина общественному вкусу». Те долго канителили с ответом и наконец отказались. У «Бубнового валета» тогда уже был уклон в “мирискусстничество”. А если прибавить эту последнюю обиду, станет понятно, почему на следующем диспуте “валетов” мы с Маяковским жестоко отомстили им. Во время скучного вступительного доклада, кажется, Рождественского, при гробовом, унылом молчании всего зала, я стал совершенно по-звериному зевать. Затем в прениях Маяковский, указав, что “бубнововалетчики” пригласили докладчиком аполлонщика Макса Волошина, заявил, перефразируя Козьму Пруткова:
Коль червь сомнения заполз тебе за шею, Дави его сама, а не давай лакею.
В публике поднялся содом, я взбежал на эстраду и стал рвать прицепленные к кафедре афиши и программы. Кончаловский, здоровый мужчина с бычьей шеей, кричал, звенел председательским звонком, призывал к порядку, но его не слышали. Зал бушевал, как море в осень. Тогда заревел Маяковский - и сразу заглушил аудиторию.9 Он перекрыл своим голосом всех. Тут я впервые и “воочию” убедился в необычайной голосовой мощи разъярённого Маяковского. Он сам как-то сказал:
У него был трубный голос трибуна и агитатора. Бенедикт Лившиц, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Кручёных. 1912 г. В 1912–13 гг. я много выступал с Бурлюками, Маяковским, особенно часто с последним. С Маяковским мы частенько цапались, но Давид Давидович, организатор по призванию и “папаша” (он был гораздо старше нас), все хлопотал, чтоб мы сдружились. Обстоятельства этому помогали: я снял летом 1912 г. вместе с Маяковским дачу в Соломенной сторожке, возле Петровско-Разумовского.
Вдвоем будет дешевле, - заявил Маяковский, а в то время мы порядком бедствовали, каждая копейка на учёте. Собственно, это была не дача, а мансарда: одна комната с балконом. Я жил в комнате, а Маяковский на балконе.
Там мне удобнее принимать своих друзей обоего пола! - заметил он.
Тут же, поблизости, через 1–2 дома, жили авиатор Г. Кузьмин и музыкант С. Долинский. Воспользовавшись тем, что оба они были искренно заинтересованы новым искусством и к нам относились очень хорошо, Маяковский стал уговаривать их издать наше “детище” - «Пощёчину». Книга была уже готова, но “бубнововалетчики” нас предали. А Кузьмин, лётчик, передовой человек, заявил:
Рискну. Ставлю на вас в ординаре!
Все мы радовались.
Ура! Авиация победила!
Действительно, издатель выиграл - «Пощёчина» быстро разошлась и уже в 1913 г. продавалась как редкость. Перед самым выходом книги мы решили написать к ней вступительный манифест, пользуясь издательским благоволением к нам. Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь - этот самый манифест к «Пощёчине общественному вкусу». Москва, декабрь 1912 года. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы. Помню, я предложил:
„Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”.
„С парохода современности”.
Кто-то:
„сбросить с парохода”.
Маяковский:
„Сбросить - это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода...”
Помню мою фразу:
„Парфюмерный блуд Бальмонта”.
Исправление В. Хлебникова:
„Душистый блуд Бальмонта” - не прошло.
Ещё мое:
„Кто не забудет своей первой любви - не узнает последней”.
Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине:
„Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет”.
Строчки Хлебникова:
„Стоим на глыбе слова мы”.
„С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество” (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).
Хлебников по выработке манифеста заявил:
„Я не подпишу это... Надо вычеркнуть Кузмина - он нежный”.
Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своём особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел! Закончив манифест, мы разошлись. Я поспешил обедать и съел два бифштекса сразу - так обессилел от совместной работы с великанами...
Поляков В.
Поэтические манифесты
Футуризм как движение начался с манифеста. Само по себе это глубоко закономерно, ведь футуризм осмыслял себя не просто очередным художественным направлением, но прежде всего - новым мировоззрением, призванным изменить мир. Поэтому пафос неприятия, особенно поначалу, был очень силен в деятельности футуристов. Как мы помним, говоря о русском будетлянстве, Лившиц указывал, что “оно желало определяться только отрицательно”. Действительно, многочисленные призывы с требованиями “бросить”, “разрушить”, “поджечь” и т.д. прежде всего обращали на себя внимание современников. Однако не в них, вернее, не только в них заключалось существо самого движения. Разрушая старое, футуризм одновременно утверждает новое. В первом футуристическом манифесте Маринетти только один из одиннадцати пунктов был целиком построен на отрицании (“10. Мы хотим разрушить музеи...”). Все остальные являются своеобразной программой предстоящей деятельности футуристов: в каждом из положений содержится указание на результат, который необходимо достичь в будущем. Русские унаследовали от итальянцев это стремление к сочетанию отрицательного пафоса с декларативными заявлениями. Но очень быстро в их манифестах становится заметна и определенная перестановка акцентов. Показательны даже разные грамматические формы, которые употребляют русские и итальянцы. Если Маринетти формулирует свои положения, в основном обращаясь к глаголам, фиксирующим состояние желания (“мы хотим” повторяется пять раз: “мы хотим воспеть...”, “мы хотим прославить...” и т.д.), долженствования (“поэзия должна...”) или побудительными оборотами типа “надо, чтобы...”, то русские предпочитают глагольную форму совершенного вида (“нами осознана...”, “мы перестали...”) с присущим ей оттенком утверждения. В этом, на первый взгляд случайном различии заключается очень важный момент. То, что должно декларировать, - русские утверждают, устраняя при этом временную дистанцию между процессом становления (например, “мы станем новыми людьми”) и уже достигнутым фактом состояния (“мы новые люди...”). Перед нами типичный образец своеобразной подмены, когда посредством словесных заклинаний утверждаемое на словах начинает приобретать статус действительно существующего. Из всего сказанного становится ясно, почему жанр манифеста оказался столь желанным для футуристов. Именно он полнее всего позволял выражать подобные настроения. Не случайно Бердяев в своем анализе футуризма подчеркивал, что “агитационные материалы у футуристов преобладают над художественным творчеством”. Хотя, если быть точным, такое разграничение не совсем верно, поскольку само “художественное творчество” футуристов оказывалось насквозь “агитационным”. Правильнее было бы сказать, что создание манифестов для них и являлось одной из важнейших форм художественной деятельности. Можно найти множество подтверждений этой мысли. Практически все футуристы так или иначе обращались к жанру манифеста. Особенно важную роль он играл в творчестве тех мастеров, которые выступали с обоснованием какого-либо новаторского направления в искусстве. Можно вспомнить имена Кандинского, Ларионова, Хлебникова, Филонова, Крученых, наконец, Малевича. В их “манифестационной” деятельности дает о себе знать весьма характерная тенденция, при которой процесс создания художественного произведения постепенно уравновешивается в своих правах с процессом создания манифеста, а в отдельных случаях, как, например, у Малевича, и замещается им. В этом смысле глубоко права оказалась американская исследовательница Мэджори Перлоф, отметившая, что в футуристическом творчестве манифест начинает играть роль своеобразной художественной формы. В истории русского футуристического манифеста отмеченная тенденция проявила себя прежде всего как тенденция, то есть процесс слияния художественного и теоретического творчества шел постепенно. Дело в том, что русские долгое время не имели возможности выступать с публикацией своих манифестов в прессе. Поэтому они были вынуждены обратиться к форме печатной листовки. Этот “жанр” имел давнюю традицию в русской низовой культуре, восходя еще к так называемым грамоткам и прелестным письмам, которыми в старину бунтовщики “прельщали” народ. С тех пор определенный заряд противодействия общепринятому становится неотъемлемым признаком листовки, что также отвечало намерениям футуристов. К тому же надо иметь в виду, что по силе сиюминутного воздействия листовка, безусловно, превосходила все остальные виды печатной продукции. От ее использования не отказывались даже тогда, когда появилась возможность издавать свои сборники и выступать с заявлениями в печати. В известном смысле футуристы продолжали и традицию подпольного распространения подобного рода изданий. В качестве примера можно привести широко известную историю с “Садком судей”: уходя с одного из вечеров в ивановской “Башне”, Бурлюки, проникшие туда “очень благочестиво”, “насовали всем присутствующим в пальто и шинели в каждый карман по “Садку”. С ней перекликается и рассказ Крученых о том, как Хлебников расклеивал в вегетарианской столовой копии листовки “Пощечина общественному вкусу”. Некоторые ее экземпляры он затем, “хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню”. Стремление к “анонимности” было особенно характерно для раннего этапа развития русского футуризма. Две первые листовки Бурлюка были опубликованы без указания имени автора. Они предназначались для распространения на выставках, и это целиком определило их характер. Обе листовки были направлены против резкой критики, развернувшейся в печати сразу же после первых выступлений молодых художников. Бурлюк считал необходимым опровергнуть становящиеся уже традиционными обвинения в подражании Западу. Поэтому тексты его листовок являются, по сути дела, развернутыми статьями “в защиту” и специфических особенностей, присущих манифесту как “жанру”, еще не содержат. Собственно же наступательные тенденции впервые дают о себе знать в знаменитом манифесте, которым открывается сборник “Пощечина общественному вкусу”. В отличие от предыдущих, под ними уже были проставлены подписи его авторов - четырех участников сборника: самого Бурлюка, Крученых, Маяковского и Хлебникова. К тому времени русские были уже знакомы с первыми манифестами итальянских футуристов. Оттуда они позаимствовали не только стиль, но и саму форму изложения основных положений “по пунктам”. Лившиц вспоминал, что именно в это время Бурлюк “носился” с идеей публикации манифеста, в котором были бы выражены программные установки нового движения: Статью обязан ты сей миг выслать мне в каком бы то ни было виде. Будь нашим Маринетти! Боишься подписать - я подпишу: идея прежде всего!.. Однако эти устремления удалось реализовать лишь отчасти. В тексте, открывавшем “Пощечину”, по справедливому замечанию Лившица, действительно чувствовалась сильная стилистическая разноголосица: “наряду с предельно индустриальной семантикой парохода современности” присутствовали и “вынырнувшие из захолустно провинциальных глубин зори неведомых красот”. Одной из причин этого была спешка, в которой создавался этот первый будетлянский “документ”: Бурлюк подчас механически соединял идеи, высказываемые всеми участниками. И все же то, что это был манифест нового типа, становилось заметно сразу - особенно по сравнению с двумя предыдущими листовками. В “Пощечине” текст становится короче, тяготея к афористичности. Вместо оправдания и защиты авторы сами переходят в наступление. Безусловно удачным и запоминающимся стал призыв “бросить с Парохода современности...”, а подбор имен тех, кого предлагалось “бросить”, также точно бил в цель. Пушкин, Толстой и Достоевский обеспечивали необходимое внимание со стороны эпатированного обывателя, имена же Бальмонта, Брюсова и Андреева прямо указывали на непосредственных литературных противников. Наконец-то Бурлюку удалось достичь главного - привлечь к сборнику и к группе внимание публики, спровоцировать скандал. И в то же самое время он сумел, правда, еще не очень внятно, представить и позитивную программу, с которой будетляне выходили на арену русской литературы, - мысль о словоновшестве и заявление о красоте Самоценного (самовитого) слова. После выхода сборника в свет в качестве ответа на развернувшуюся в прессе травлю и одновременно с пропагандистскими целями Бурлюк выпускает специальную листовку, заглавие которой повторяло название сборника. В ней содержались не только тексты, но и фотография участников сборника вместе с издателями. Особый интерес представляет текст, который ее открывал. Он демонстрирует несомненное мастерство Бурлюка в овладении всеми законами жанра. Отпечатанный в яркой “лозунговой” манере (имя Хлебникова и наиболее важные мысли выделялись жирным набором), он, подобно плакату, был рассчитан на мгновенное воздействие. Этому также способствовали краткость и логическая четкость изложения самого материала. Цель, которую Бурлюк поставил перед собой в данном случае, заключалась в создании определенной линии развития нового движения. Выстроенные в один ряд заявления о публикации “Садка судей” в 1908 году, о появлении “гения - великого поэта современности - Велимира Хлебникова” и объединении вокруг него “плеяды” писателей, “кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: “Долой слово средство, да здравствует Самовитое, самоценное Слово!”, должны были отвести возможные обвинения в подражании итальянским футуристам. Повторенные же во второй части текста “приказания” - так называемые “права поэтов”, ранее уже опубликованные в сборнике - призваны были опровергнуть обвинения критики в том, что «будетляне» не сказали ничего нового - ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову”. Обращает на себя внимание и остроумный ход, найденный Бурлюком: поскольку листовка складывается пополам, основной ее текст был помещен на лицевой стороне, внутренние же страницы отданы для своеобразной “иллюстрации” неистинности этих обвинений. На них представлены образцы старой и новой поэзии и прозы, подобранные таким образом, чтобы наглядно, с помощью контраста, продемонстрировать преимущества новой литературы: Пушкин оказывается в соседстве с Хлебниковым, Лермонтов - с Маяковским, Надсон - с Бурлюком, а Гоголь - рядом с Крученых. Отвечая таким образом на обвинения критиков, Бурлюк в то же время понимал и определенную недостаточность своих “ответов”. Критика, а тем более - широкая публика оказались неспособны к восприятию “Великих откровений Современности”. Лозунги, превозносившие “самовитое” слово, или заявления о “непреодолимой ненависти к существовавшему языку” им ничего не объясняли, казались неконкретными. Необходима была программа, в которой, помимо отрицательных и чисто декларативных утверждений, содержалось бы разъяснение самого существа новаторских устремлений участников группы. Такая программа была помещена в следующем манифесте, выпущенном Бурлюком. Созданный “гилейцами” в содружестве с М. Матюшиным и Е. Гуро, он открывал собой второй выпуск “Садка судей”. Этот манифест следует признать одним из самых “программных” среди произведений подобного рода, выпущенных русскими футуристами. Несмотря на известную зависимость и самой его формы, и многих заключенных в нем положений от манифестов итальянцев (на что мы уже указывали), именно в нем мы впервые встречаемся с развернутым обоснованием “новых принципов творчества”. Из тринадцати составляющих манифест пунктов только последний содержит утверждения общего характера. Все остальные образуют довольно стройный ряд положений, описывающих особенности нового поэтического языка, который будетляне выдвигают на смену “существовавшему”. Несмотря на то, что положения эти, как и в предыдущем случае, принадлежали разным авторам, они вовсе не представляли собой “окрошку”, как об этом пишет Лившиц. Напротив, за ними чувствовалась достаточно единая концепция, имевшая своей целью изменение самого отношения к слову. Слово перестает восприниматься исключительно своей содержательной стороной. Требование “придавать содержание словам по их начертательной и фонетической характеристике” лишало слово раз и навсегда данного ему значения. Обращение к звуковой природе слова на практике означало возвращение к тому его состоянию, когда оно, по выражению А. Потебни, представляло собой лишь чистую “рефлексию чувства в звуках”. Поэт становился свидетелем самого процесса возникновения слов в языке. Всю важность подобного открытия можно оценить, лишь учитывая те “апостолические” настроения русского будетлянства, о которых мы уже говорили в предыдущей главе. Они придавали, казалось бы, узкофилологическим изысканиям статус созидательного акта: поэт из создателя образов, использующего для этой цели уже “существующий” язык, превращался в создателя самого языка. “Языководство, - говорил Хлебников, - дает право населить новой жизнью... оскудевшие волны языка. Верим они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения”. В контексте этих идей и следует рассматривать остальные тезисы манифеста. Их задачей является предварительное, во многом еще схематичное описание основных принципов “нового” языка. И именно поэтому такое внимание в манифесте уделено словотворчеству. “Осознаются” не только приставки и суффиксы, но и изначальные элементы языка - гласные и согласные звуки. Их роль выявлена по аналогии с “первичными” для человека ощущениями - пространства и времени, цвета, звука, запаха. Наконец, слово оказывается родственным и стихии мифотворчества - его “первобытное” состояние способно порождать миф. Анализируя манифест, мы постоянно встречаемся с этим утопическим желанием его авторов вернуться “в первые дни творения”. В действительности оно оборачивается уже знакомой нам ситуацией, когда футуристы в своих поисках будущего устремляются к прошлому. Ведь язык, к созданию которого направлены усилия будетлян, на самом деле оказывается языком... далекого прошлого - именно тогда связь слова и породившего его чувства давала о себе знать с наибольшей полнотой. Здесь, по-видимому, следует искать причину того пристального интереса, который поэты-будетляне испытывали к фольклорной традиции, считая, что только “в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия...”. Манифест, открывший второй “Садок судей”, стал узловой точкой в развитии поэтической концепции русского футуризма. Исходящие от него многочисленные импульсы мы встретим как в поэзии, так и в теоретической мысли будетлян. Наиболее острое свое воплощение они получили в творчестве А. Крученых. Вслед за Бурлюком он также обращается к практике пропаганды своих идей путем “публикации” их в специальных манифестах. Именно в них А. Крученых теоретически обосновывает свою концепцию “заумного” языка. Иногда Крученых считается единственным автором этой концепции, хотя ее возникновение, вероятно, во многом было связано с осмыслением поэтических опытов Хлебникова. Во всяком случае, первые книги Крученых (“Старинная любовь”, “Игра в аду”) еще лишены “зауми”: она впервые дает знать о себе только в “Мирсконца” и в “Помаде”, с ее знаменитым “дыр бул щыл” - книгах, подготовленных совместно с Хлебниковым. Только после их выхода в свет Крученых выпускает свой первый теоретический манифест - “Декларацию слова, как такового”. Тезисы этого манифеста, несмотря на то, что они расположены в “заумном” порядке (вначале идет пункт 4, затем - пункты 5, 2, 3 и только потом - первый), выдают свою прямую зависимость от положений, выдвинутых в “Садке судей” II. Крученых доводит их до логического конца, моделируя все ту же ситуацию “первых дней творения”. “Художник, - заявляет он, - увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена”. Таким образом поэт восстанавливает изначальную чистоту самого процесса называния вещи: “Лилия прекрасна, - приводит пример Крученых, - но безобразно слово лилия захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы - первоначальная чистота восстановлена”. Ситуацию “называния вещи”, как известно, воссоздавал в своем творчестве и Хлебников. Однако в своих поисках он стремился ухватить семантику отдельного звука - понять, почему именно этот звук, а не какой-либо иной связывается в сознании с той или иной вещью. Для Крученых процесс “называния” был более субъективен - об этом свидетельствует приведенный пример с лилией. Для него гораздо важнее смысловой природы этих звуков оказывалась их первоначальная “внесмысловая” выразительность. Зафиксировать ту стадию, когда первичный звуковой материал еще не утратил связи с породившим его чувством и в то же время не успел еще наполниться смыслом, - в этом видел свою задачу Крученых. Отсюда у него такое внимание к “рядам” гласных и согласных звуков, способных “бессознательно” строить “вселенский язык”. Здесь же лежит причина пристального интереса поэта ко всем проявлениям “начальной” стадии языка в современной жизни, будь то детская речь, шаманские заговоры или хлыстовские песнопения. Обращает на себя внимание, что Крученых, тем не менее, не мыслит “заумный” язык в качестве единственного языка будущего. В своем следующем манифесте - “Новые пути слова” - он утверждает, что “для изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новое сочетание их”. Образованы эти слова могут быть разными путями: посредством “произвольного словоновшества” (то есть “заумно”, в духе “дыр бул щыл”), путем “неожиданного словообразования” - имеется в виду хлебниковский метод “скорнения слов”. Однако не исключается и использование “традиционных” слов - при условии, что они будут сочетаться “по их внутренним законам, кои открываются речетворцу, а не по правилам логики и грамматики...” Фактически Крученых дает здесь полный перечень художественных средств, присущих поэтической практике футуристов. Главное, что объединяет все эти “пути”, - то, что полученное с их помощью “слово (и составляющее его - звуки) не только куцая мысль, не только логика, но главным образом заумное”, то есть слово оказывается “шире смысла”. Но обратим внимание - в качестве иллюстрации этих положений приводятся не “заумные” слова, но слова, образованные по “методу” Хлебникова (и, возможно, им самим и подсказанные): “гладиаторы и мечари”, “морг и трупарня”, “университет - всеучьбище”. В этих парах “традиционное” слово оказывается заимствованным, а “новое”, сходное с ним по смыслу, “построено” по аналогии с другими словами русского языка. Показательно, что поэтическая практика самого Крученых в эти годы также не выделяет какой-либо один “метод”. В “Утином гнездышке” он использует прием неожиданного сочетания традиционных слов, во “Взорвале” и “Возропщем” дает примеры “неожиданных словообразований” и “произвольного словоновшества”. Лишь два года спустя поэт заявит, что поэзия окончательно “зашла в тупик и единственный для нее почетный выход... перейти к заумному языку...”. Альбом Крученых “Вселенская война” будет уже целиком состоять из “заумных” стихотворений. Как видим, в манифестах Крученых, как и в рассмотренных ранее манифестах Бурлюка, декларации, имеющие отношение к собственно поэтическому творчеству, занимают несколько обособленное положение. Вопросы общего характера, касающиеся грядущих изменений в социуме и мироздании в целом, конечно, присутствуют в этих манифестах - без них они сразу бы потеряли свой футуристический характер. Однако их связь с “поэтическими” установками скорее подразумевается. Первым, кто по-настоящему слил в своем творчестве обе эти сферы, был Ларионов. В этом плане его манифесты являются одними из наиболее “футуристических” в России. Сам художник воспринимал их в качестве начала грандиозного “вторжения” искусства в жизнь.
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу
Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы - лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. - нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!
Мы приказываем чтить права поэтов:
1) На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).
2) На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3) С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Вами Венок грошовой славы.
4) Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма Ваших «Здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
Д. Бурлюк,
Александр Крученых,
В. Маяковский,
Виктор Хлебников
Велимир Хлебников
Конь Пржевальского
«Бобэоби пелись губы…»
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
«Кому сказатеньки…»
Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька?
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила,
Дева ветреной воды.
Полно, сивка, видно тра
Бросит соху. Хлещет ливень и сечет
Видно ждет нас до утра
Сон, коняшня и почет.
«На острове Эзеле…»
На острове Эзеле
Мы вместе грезили,
Я был на Камчатке,
Ты теребила перчатки
С вершины Алтая
Я сказал «дорогая».
В предгорьях Амура
Крылья Амура.
«Крылышкуя золотописьмом…»
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» - тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
«Очи Оки…»
Очи Оки
Блещут вдали.
«Чудовище - жилец вершин…»
Чудовище - жилец вершин,
С ужасным задом,
Схватило несшую кувшин,
С прелестным взглядом.
Она качалась, точно плод,
В ветвях косматых рук.
Чудовище, урод,
Довольно, тешит свой досуг.
«Гуляет ветреный кистень…»
Гуляет ветреный кистень
По золотому войску нив
Что было утро, стало день.
Блажен, кто утром был ленив.
«С журчанием-свистом…»
С журчанием, свистом
Птицы взлетать перестали.
Трепещущим листом
Они не летали.
И как высокое крыло
Ночного лебедя грозы
Птица-облако нашло
Бросая сумрак на низы
Тянулись таинственно перья
За тучи широким крылом.
Беглец науки лицемерья,
Я туче скакал напролом.
Девий бог
Посвящается Т.
Первое
Дочь князя-Солнца. Мамонько! Уж коровушки ревьмя ревут, водиченьки просят, сердечные. Уж ты дозволь мне, родная, уж ты позволь, родимая сбегаю я за водицей к колодцу, напиться им принесу, сердечушкам-голубушкам моим. Не велика беда, если княжеской дочке раз сбегать до колодца за водой идучи, не перестану я быть дочерью Солнца, славного князя Солнца. И плечи мои не перестанут быть нежными и белыми от коромысла. А со двора все ушли слуги нерадивые, кто куда.
Боярыня. Сходи, родная, сходи, болезная. И что это на тебя причуда какая нашла? О коровушке заботу лелеешь! То, бывало, жемчуга в воду-реченьку кидаешь - а стоят коровушек они, - или оксамиты палишь на игрищах у костров - а стоят жемчугов они, а то о коровушках заботу лелеешь. Иди, доня, пойди, напой их! Только зачем это кику надела с жемчужной укой? Еще утащит тебя в реку из-за нее водяной, и достанешься ты не морскому негуту, а своей родной нечисти. Или боднет тебя буренушка, а и страшная же она!
Молва, дочь князя-Солнца. О, мамо, мамо! Буду идти мимо Спячих, и нехорошо, если увидят меня простоволосой. Лучше жемчужную кику иметь, идя и по воду для коровушек.
Мать Молвы. Иди, иди, Незлавушка, иди, иди, красавица! (Целует ее, склоненную, с распущенными волосами, в лоб. Княжна, раскрасневшись, с лицом постным и отчаянным, уходит.) Только почему я коровьего мыка не слышу? Или на старости глуха стала? (перебирает в ларце вещи).
(Вбегает старуха, всплескивая руками.)
Старуха. О, мать-княгинюшка! Да послушай же ты, что содеялось! Да послушай же ты, какая напасть навеялась! Не сокол на серых утиц, не злой ястреб на голубиц невинных, голубиц ненаглядных, голубиц милых, - Девий-бог, как снег на голову. Девий-бог, он явился. Девий-бог.
Боярыня (в ужасе). Девий-бог! Девий-бог!
Старуха. Явился незваный, негаданный. Явился ворог злой, недруг, соколий глаз. С ума нас свести, дур наших взбесить. О, сколько же бед будет! Иные будут, шатаясь, ходить, делая широкими и безумными от счастья глаза и твердя тихо: «он, он». Другие, лапушка моя, по-разному не взвидят света.
Княгиня. Ах ты, напасть какая! Ах ты, туча на счастье наше. На счастье наше золотое, никем не поруганное, никем не охаянное, не позоренное. Уж я ли не наказывала Белыне: чуть проведаешь, что лихо девичье в городе, - ворота на замок, на замок резные, а ключ либо в воду, либо мне. Да собак позлее пусти по двору, чтобы никто весточки не мог передать, той ли записочки мелкочетчатой. То-то коровушкам пить захотелось! То-то в жемчугах идти нужда стала. И девки разбежались все. О, лукавая же, ненаглядная моя! И истрепала бы ее ненаглядные косы, если бы не любила пуще отца-матери, пуще остатка дней ее, золотую, и золотую до пят косу. И лишь равно мил сине-черный кудрями Сновид. Но он на далеком студеном море славит русское имя.
(Входят другие женщины, всплескивая руками.)
Женщины. Сказывают, что царская дочь как селиночка-поляниночка одета и тоже не сводит безумных глаз с девичьего лиха.
А говорят, красоты несказанной, ни сонной, ни сказочной, а своей.
А и седые срамницы, сказывают, есть, и тоже не сводят безумных глаз с голубоокого. А он хотя бы посмотрел на кого. Идет и кому-то улыбается. А и неведомо, кому. Берет из-за пояса свирель и поет, улыбаясь. А и зачем поет, а и зачем поет, и откуда пришел, и надолго ли, - неизвестно. И куда - неслыханно, незнаемо. И куда идем - не знаем. Уж не последние ли времена пришли? Нет, в наше время знали стыд, и девушки не смели буйствовать, ослушиваясь родительской воли. А ныне, куда идем - неизвестно. Уж, знать, последние времена наступают.
Ах, седые волосы, седые волосы!
Старуха. Что, княгиня, задорого отдашь серебряное зеркало? Дай посмотрю, может быть, облюбую и любую дам за него цену. Греческой работы. А из Фермакопеи?
Княгиня. Нет, жидовин из Бабилу привез.