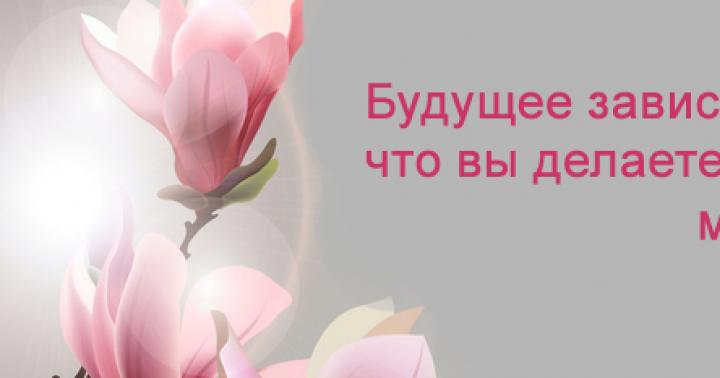Общая для литературы этого времени тенденция синтеза искусств в поэзии обнаружила себя в оригинальных жанрах авторской песни, рок-поэзии, видеом и т.п. В целом поэзия 1970-1990-х годов, как, впрочем, и вся художественная литература этого времени, представляет собой органический сплав реалистических и модернистских тенденций. Ей равно присущи яркие поэтические открытия, новые оригинальные ритмы, размеры, рифмы и опора на уже известные, традиционные образы и приемы. Примером может служить центонность, о которой уже шла речь в применении к прозе. Поэты отталкиваются не только от жизненных впечатлений, но и от литературных.
Современная поэзия - вся в движении, в поиске, в стремлении как можно полнее выявить грани дарования поэта, подчеркнуть его индивидуальность. И все-таки приходится признать, что в русской поэзии 1970-1990-х годов, несмотря на богатство и новизну жанров, наличие ярких творческих индивидуальностей, несомненное обогащение стихотворной техники, вакансия первого русского поэта, освободившаяся после смерти А. Ахматовой, пока все еще не занята. Последнюю треть XX столетия все чаще называют "бронзовым веком" русской поэзии. Время, конечно, проверит "степень блеска", но уже сейчас одной из важнейших характеристик эпохи следует признать необычайное многообразие, многоцветье и "многолюдье" поэзии этого периода.
Поэтическое слово всегда быстрее приходило к читателю (слушателю), чем прозаическое. Нынешнее же развитие коммуникационных систем - в условиях отсутствия идеологической (а нередко и моральной) цензуры - сделало процесс публикации свободным, мгновенным и глобальным (ярчайшее свидетельство - динамичное распространение поэзии в сети Интернет). Однако говорить о каком-либо поэтическом буме, подобном "оттепельному", не приходится. Говорить надо скорее о постепенном возвращении поэтического (и вообще литературного) развития в естественное русло. Публикующих стихи становится больше, читающих - меньше. А значит, формула Е. Евтушенко "Поэт в России - больше чем поэт" утрачивает свой вневременной смысл, локализуясь в конкретно-исторических рамках. Не настает ли время иной формулы, предложенной И. Бродским: поэт "меньше, чем единица"? В связи с этим возникает "проблема авторского поведения" (С. Гандлевский). Коль скоро идея общественного служения поэта уступает идее создания новых эстетических ценностей, то и поэту в реальной жизни, и лирическому герою в тексте все сложнее самоопределяться привычным, "классическим" образом. Трудно представить себе сегодня лик поэта-"пророка" - и "глаголом жгущего сердца людей", и "посыпающего пеплом... главу", и идущего на распятие с миссией "рабам земли напомнить о Христе" (варианты XIX в.). Но и "агитатор, горлан, главарь", и затворник, не знающий, "какое... тысячелетье на дворе" (варианты XX в.), в последние десятилетия в лирике не заметны. Кто же заметен?
Если не рассуждать об иерархии, не определять "короля поэтов", а искать наиболее оригинальные версии нового лирического героя, то в 1970-е годы на эту роль мог бы претендовать герой Ю. Кузнецова. Это поэт, "одинокий в столетье родном" и "зовущий в собеседники время"; это "великий мертвец", раз за разом "навек поражающий" мифологическую "змею" - угрозу миру; это в прямом смысле сверхчеловек: над человеком, в космосе находящийся и масштабами своими космосу соразмерный. Назовем этот вариант вариантом укрупнения и отдаления лирического героя. Напротив, ставшие широко известными уже в 1980-е годы поэты-концептуалисты (главным образом, Д. Пригов и Л. Рубинштейн), продолжая линию Лианозовской школы и конкретной поэзии, почти (или совсем) растворили свой голос в голосах вообще, в языке как таковом. Они то надевают некую типовую маску (Пригов в маске недалекого обывателя), то устраивают целое "карнавальное шествие" многоголосного "не-я" (Рубинштейн).
Совсем иной стиль авторского поведения в той среде, которую создает возрождающаяся духовная поэзия. В 1980- 1990-е годы в русле этой традиции активно и заметно работают З. Миркина, Л. Миллер, С. Аверинцев, В. Блаженных, о. Роман и др. Их объединяет традиционно-религиозное, близкое к каноническому понимание места человека в мире, и поэт в их стихах не претендует на какую-то особую выделенность. "Поэзия - не гордый взлет, | а лишь неловкое старанье, | всегда неточный перевод | того бездонного молчанья" (З. Миркина). "Неловкое старанье" в этих стихах очень точно передает христианское самоопределение поэта.
И образов лирического героя, и вариантов авторского поведения в современном поэтическом процессе очень много, и это объективное свидетельство не только "проблемности" вопроса, но и разнообразия художественного мира поэзии. Однако еще больше вариантов "собственно формальных": лексических, синтаксических, ритмических, строфических и т.п., что говорит уже о богатстве художественного текста. В формальной области экспериментов всегда было больше, нежели в содержательной, однако то, что произошло в последние десятилетия XX в., аналогов не имеет. Правда, чаще всего эти эксперименты имеют исторические корни, и есть возможность проследить их генезис.
Так, широко распространившаяся у нас (как и во всем мире) визуальная поэзия знакома и русскому барокко XVII столетия, и русскому авангарду начала XX в. (Подробнее см. главу "Визуальная поэзия".) Не менее популярные ныне свободные стихи (верлибр) в разных своих вариантах соотносимы то с русской средневековой традицией духовной песенной лирики, то с древними японскими стихотворными формами. Упомянув о визуальной поэзии, еще раз скажем о появлении вариантов песенного жанра - авторской песни и рок-поэзии. (Подробнее см. главу "Песенная лирика".) Столь очевидная эволюция в сторону жанрово-видового многообразия в современной лирике взывает к литературоведу, критику, да и к учителю: "единых стандартов" анализа нет! Особенно актуален этот тезис применительно к школе, которая, похоже, из одной крайности (тематический подход) бросается в другую (формально-стиховой). "Набор инструментов", конечно, нужен, но применять его всякий раз в полном объеме нет никакой необходимости. К каждому стихотворению следует подходить как к феномену, для понимания которого требуется всякий раз новая комбинация литературоведческих усилий, средств, способов. В самом общем виде этот алгоритм может выглядеть так:
1) выявить исток и характер образа-переживания (словесное рисование, повествование, суждение, звук в широком смысле);
2) вести анализ "по пути автора", т.е. пытаться определить, как разворачивался исходный образ в итоговый текст. Необходимо следить за тем, чтобы анализ содержательный и формальный не отделялись один от другого, чтобы без внимания не оставались ни художественный мир, ни художественный текст, ни (при необходимости) литературный и внелитературный контекст произведения. Замечательный пример такого анализа - работа И. Бродского "Об одном стихотворении" (1981), посвященная рассмотрению "Новогоднего" М. Цветаевой.
Про Бориса Рыжего грех не сказать, он умер в 2001, если че.
Несмотря на пестрое разнообразие индивидуальных поэтик, молодую поэзию 1990-х годов определяют две тенденции, постоянно пересекающиеся, взаимосвязанные и взаимообъяснимые:
1. Особая репрезентация поэтического «я», которое характеризуется прежде всего слабостью, уязвимостью, «тотальной неуверенностью».
2. Мета-позиция по отношению к Я-пишущему (не только к собственным текстам, но и к себе-поэту). «Человек, пишущий стихи», оказывается предметом рефлексии и изображения.
Эти две тенденции определяют своеобразие поэтики текстов молодого поколения, поэтов, формирующихся в 1990-е годы - Дмитрия Воденникова, Кирилла Медведева, Станислава Львовского, Марии Степановой, Евгении Лавут, Шиша Брянского, отчасти Веры Павловой, те свойства, к которым выводят актуальную поэзию поиски самоидентификации в пространстве «после постмодерна» (или «после концептуализма»)17.
Традиционно в критике эта поэтическая парадигма (как бы ее не называть - неомодернизм, неосентиментализм, постконцептуализм или иначе) характеризуется прежде всего серьезностью («ответственностью»), не-ироничностью, не-игровым характером поэтического высказывания, возрождением «лирического субъекта» («исповедальностью»), «эротичностью» (телесностью) поэтического текста. Представляется, что переходность новой актуальной российской поэзии, ее стремление отказаться, отойти от поэтики постмодерна позволяет интерпретировать, объяснить некоторые уже выделенные и частично описанные ее черты как основание некой единой поэтической системы.
Предметом изображения в лирике девяностых становится «человек, пишущий стихи»; а часто (у Дмитрия Воденникова, например) еще и процесс написания, вынесения «на публику» и взаимодействия написанного с поэтом и с публикой. В стихотворении существует не только одно «поэтическое „я“», но и «поэт», глядящий на него сверху, наблюдающий и оценивающий его (в отличие от концептуализма, где автор/поэт принципиально отсутствовал). Так буквально реализуется мета-позиции, осознанность поэтической работы. После постмодерна уже невозможно делать вид, что ты «просто пишешь стихи», хотя большинство авторов «молодого поколения» именно к этому и стремятся - так или иначе вырваться из «литературности» собственных текстов, вернуться к так называемому «прямому высказыванию»
Поэтов 90-х гг. отличает очень высокая степень рефлексии и осознанности того, что и как пишется:
«Для меня все-таки очень важно, кто на меня повлиял и что чем навеяно, я хочу, насколько это возможно, отделять свое, подлинное в моем мировосприятии от литературного, наносного. Это очень сложно. Когда я пишу, я как бы вижу себя насквозь (…)» (Кирилл Медведев19).
Во-первых, это многократное удвоение и умножение поэтического «я»: например, очевидное в текстах Дмитрия Воденникова или Марии Степановой. Мета-позиция обусловливает раздвоение пишущего: постоянная перемена точек зрения, диалог с самим собой, провоцирующий «тотальную неуверенность лирического субъекта», его раздвоенность, «близнечность»:
Куда ты, я? Очнусь ли где-то?
Что скажет туча или три
На то, как тут полураздета
И ты на это не смотри20 (Мария Степанова).
…и обратное мне, как полюс -
Стать не мной. Поменять лукошко.
(…) и увидеть себя на травке (Мария Степанова).
Я как солдат прихожу домой…
Накроет оно: кто я здесь и кто здесь он (Елена Фанайлова).
Диалог внутри текста между «я» у Д. Воденникова часто отмечено курсивным (заглавными буквами) начертанием «реплик» одного из «я».:
Так дымно здесь
и свет невыносимый,
что даже рук своих не различить -
кто хочет жить так, чтобы быть любимым?
Я - жить хочу, так чтобы быть любимым!
Ну так как ты - вообще не стоит - жить. («Как надо жить - чтоб быть любимым»)
Тексты Кирилла Медведева также фиксируют некоторую отстраненность от «поэтического „Я“», несколько иную, чем у Воденникова и Степановой, но все же четко явленную. Вводные фразы, скрепляющие его тексты - тавтологичны, не нужны. Они присутствуют для отстранения от поэтического «я» (и вместе с тем как бы настаивают на существовании поэтического «я», постоянно напоминают о нем: «это обо мне идет речь, это я все это переживаю»), вводят это «я» как объект рефлексии/описания, сигнализируют о том, что высказывание все же не совсем «прямое» - а «псевдопрямое»:
мне надоело переводить…
мне кажется я почувствовал…
меня всегда очень интересовал
один тип поэта…
меня всегда удивляет…
мне очень не нравится…
мне очень нравится когда…
я с ужасом понял…
я недавно понял…
Разрушение стихотворной формы у Кирилла Медведева - за счет взгляда на «поэтическое Я» сверху. Отстраненность от «я» разрушает, но и связывает текст, оказывается стержнем как-будто-не-поэтического текста. Мета-позиция (рефлексия) напрямую связана со слабостью «поэтического Я»:
я с ужасом понял
что никого не могу утешить.21
Во-вторых, вновь осознается слабость, уязвимость и неестественность («стыдность») самого положения поэта. Например, у Медведева жизнь профессионального литератора обозначается как «неестественная жизнь»22.
У Воденникова, в книге «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» литература выступает как имитация, ложь («из языка, залапанного ложью»). Соотнеся название текста «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» и строки оттуда же «Я научу мужчин о жизни говорить // Бессмысленно, бесстыдно, откровенно» (с явной отсылкой к ахматовскому «Я научила женщин говорить»), вероятно, можно попытаться интерпретировать это шокирующее и неоправданное на первый взгляд название: прямота и бесстыдность, откровенность и открытость стихов - это кажущаяся их прямота и честность, кажущаяся и лживая - потому что все это литература, имитация подлинности.
Мета-позиция, идентификация себя, своего «я» как поэтического, вернее, ее неизбежность обнажает литературность написанного, его включенность в обще-литературный контекст и - тем самым - слабость пишущего перед своим собственным текстом и Текстом вообще - при абсолютной заявленной интенции «прямого высказывания», честного (та же парадоксальная трагедия ахматовского «Реквиема» - она не случайно возникает здесь в качестве пре-текста: горе лирической героини, но и отстраненность от него, возможность его описания профанируют, снижают само это «горе»).
Поэтам девяностых свойственно «пренебрежительное», самоуничижительное отношение к своим текстам: «стишки» Станислава Львовского; «стихтворенья» Воденникова (эта редукция неоднократно повторяется в текстах Воденникова, хотя обычно они весьма ровны - в отличие от текстов Степановой, где подобная редукция, чаще всего в ударной позиции, в финале текста или конце строки - становится приемом, опознавательным знаком ее поэтики).
это стишки и ничего больше (Львовский)
Вот это мой стишок,
мой стыд, мой грех,
мой прах (Воденников).
«Стыд» Воденникова - стыд телесности и текстуальности (взаимосвязанных), стремление к «предельной простоте» (поэт=стриптизер):
Ведь я и сам еще - хочу себя увидеть
без книг и без стихов (в них - невозможно жить!) (Воденников).
Тот же «стыд» присутствует и у Станислава Львовского:
я пишу помногу но редко и до сих пор
не могу избавиться при этом от чувства вины
за то что трачу время впустую вместо того
чтобы заняться делом.
Поэзия Воденникова - постоянное стремление во вне, бегство от литературности; но поэт все равно возвращается обратно («Я падаю в объятья…»; стихотворение = объятья) в литературу. Мета-позиция, внутри-литературность связана с некоторой затрудненностью речи/существования:
Так - постепенно -
выкарабкиваясь - из-под завалов -
упорно, угрюмо - я повторяю:
Искусство принадлежит народу…
Это невольное и неизбежное (volens nolens) позиционирование себя в литературе, осознание себя в ее рамках постоянно сопровождается репрезентацией в тексте неких телесных («поэтического я») мучений, часто (поскольку телесность и текстуальность в актуальной поэзии связаны напрямую) оборачивается физическим разрушением и тела текста.
Вообще поэзии 90-х свойственна исключительная телесность поэтического «Я» (опять же в отличие от концептуальной поэзии): у Воденникова, у Веры Павловой, у Шиша Брянского. У Воденникова тело постоянно подвергается унижению/обнажению; у Шиша - физическому уничтожению; наслаждение, соитие у Павловой типологически схоже: все три вида телесных трансформаций ведут к порождению текста.
…что ни строфа - желание ударить,
что ни абзац - то просьба пристрелить (Воденников, «Четвёртое дыхание»)
… стихотворение - кончается как выпад
(не ты - его, оно - тебя - жует) (Воденников).
Шиш Брянский, поэтика которого (по крайней мере представление о сущности и происхождении поэтического дара) чуть ли не целиком вырастает из пушкинского «Пророка», бесконечно заставляет мучиться своего героя-поэта (в основе - традиционное мифологическое представление об умирающем/воскресающем поэте):
А меня отдельно Ты ударь
Клюшкою лучистою в Чело,
Чтоб Оно бы зазвенело, словно Колокол бы Царь23.
Я вмерзну в гулкую слюду,
Я распадусь на анемоны,
Святыми вшами изойду
И в жизнезиждущем аду
Баюнные услышу звоны.24
Слабость, болезнь, униженность - неизменные спутники поэтического «я». Соответственно, телесность текста оборачивается физическим разрушением, слабостью тела и текста:
Тело то, сотрясаемо икотой…
То прозрачный ноготь сгрызен в корень…
…и гуляю в собственном ущербе…
С места не встану! Боюся: нарушу
Шаткую архитектуру свою (Мария Степанова)
болею заболеваю но говорю здоров (Станислав Львовский)
Озноб, обнимающий талью (Мария Степанова)
юлия борисовна дорогая доктор
вашему больному что-то не здоровится (Алексей Денисов)
я старею лысею болею (Алексей Денисов)
вся моя жизнь
освещена болезнью (Кирилл Медведев).
Уязвимость «поэтического я», рефлексия и отстранение от него и разломленность текста постоянно пересекаются. Чтобы состояться в качестве стиха, текста, оно должно быть ущербным, «хромым», безголовым25:
Под которою кроватью буду,
Как в шатер удаляется шах,
Обезглавливать каждую букву
Из в не тех позвучавших ушах (Мария Степанова)
ЛИТЕРАТУРА 70 90- ГОДОВПОЭЗИЯ 70-90-х ГОДОВ
После поэтического бума: новое в поэзии
Сегодняшний день поэзии. Многое сегодня в нашей культуре побуждает к тому, чтобы подводить итоги: нас привычно вдохновляет каждая дата с нулем на конце, а сейчас кончается и век и тысячелетие. Что-то, безусловно, кончилось в нашей литературной ситуации; какой бы ни была литература впредь, она уже никогда не будет играть той роли, которая ей выпала в России на протяжении двух веков,- быть центром духовной, общественной, политической жизни. Наверное, никогда прежней популярности не вернет себе поэзия, во время «бума» 60-х гг. собиравшая тысячные аудитории на стадионах и при этом интимно достигавшая слуха и сердца каждого.
Изменился лирический строй стиха и прежде всего у Иосифа Бродского. Его смерть - еще один повод для подведения итогов в нашей поэзии, оставшейся без Бродского.
Многие стихи Бродского подсказывают прощальный эпиграф. Можно брать почти наудачу. Особенно из поздних стихов, когда он сделал небытие своей темой, ибо жил ощущением покинутого пространства, оставленного телом и навсегда сохраняющего память о нем:
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него - и потом сотри.
(«То не Муза воды набирает в рот...»)
Из опыта изгнанничества развилось поэтическое зрение. Может быть, этот же опыт позволил Бродскому взглянуть на русскую поэзию со стороны и исполнить свою судьбу в ней - быть завершителем. Завершить столетие, до конца которого он немного не дожил (и знал, что не доживет: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я...»). Завершить нечто в русской поэзии. Что именно?
С уходом далеко не каждого даже великого поэта остается ощущение глобальной завершенности. Все бывшее до себя завершил и все идущее вослед начал Пушкин («наше все»). Потом эта идея возникла со смертью Блока: «От Пушкина до Блока» - выражение, ставшее формулой завершенности культурного периода. А со смертью Бродского? Откуда вести линию его родства и предшествования? Это вопрос, ответ на который могут дать только стихи. Ими Бродский, обращаясь ко многим, возвращался и к самому началу новой русской поэзии - к Кантемиру. Подражанием его сатирам совершенно оправданно и точно открывается второй том сочинений - после ссылки. Силлабика Кантемира не осталась для Бродского филологическим упражнением, но вошла в опыт его поэзии, как раз в это время меняющей свой строй, раскрепощающей свое звучание. Пример Кантемира, русского посла в Лондоне и Париже, для Бродского - пример вхождения русского поэта в мировую культуру, основной язык межнационального общения для которой сегодня - английский.
Большую часть своей творческой жизни Бродский прожил в англоязычном мире. Впрочем, эта фраза, верная для других уехавших, неверна для него: он прожил в культуре, овладев языком настолько, чтобы писать на нем сначала прозу, а затем и стихи.
Однако в стихах мы угадываем черты личности до реального омыта, предрасположенность к тому, что внешними обстоятельствами было развито и обострено, но не создано. Бродский по рождению, по природной склонности своего таланта был человеком конца XX столетия. Плюс к этому советская судьба, выбросившая его в мировую культуру, наградившая ощущением всемирной причастности и вселенского отчуждения. Разыгранная таким образом личная трагедия приобрела всеобщее значение в мире, где единство, столь сильно желаемое, продолжает сказываться трагическим разладом и взаимным непониманием.
В одном из своих эссе Бродский сделал поправку к основной формуле марксизма, сказав, что, конечно, бытие определяет сознание, однако, помимо этого, его определяют и многие другие обстоятельства, прежде всего мысль о небытии. Эта мысль важна для Бродского и разнообразна у него. Под ее знаком существует вся его поздняя поэзия. Она не сводится только к мысли о смерти, но, напротив, окрашивает мысль о жизни, которая в гораздо большей степени есть не^тр#е-утетвиё, а отсутствие: собственное отсутствие там, где сейчас ты хотел бы быть, отсутствие рядом того, кто любим и дорог: «Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела», - сказано в стихотворении «К Урании», посвящающем поздний сборник музе астрономии.
Страсть более не дышит в текстах Бродского, как будто он, памятуя о своем больном сердце, не может позволить себе ее взрыв и включает метроном ритма, отодвигает изображаемое на длину взгляда, в даль воспоминания:
Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.
(«Назидание», 1987)
Поэтическое зрение нагружается чувством ответственности - единственного свидетеля; сознания, удостоверяющего наличие пространства. Мерность строки как удары, если не колокола, то часового устройства, в любой момент грозящего взрывом.
Размеренная, длинная строка позднего Бродского, кажется, произвела наибольшее впечатление на поэтов (особенно молодых), стала предметом их подражания, но оставила более равнодушными читателей. Отчасти здесь можно прибегнуть к универсальному объяснению, некогда данному Пушкиным падению интереса публики к стихам Баратынского (одного из самых чтимых Бродским русских поэтов): «...лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно...»
«Уединяется» - это верно для Бродского, но что сказать о «поэзии жизни»? Что сказать о поэзии и ее возможности вообще? В своей Нобелевской речи Бродский процитировал Адорно: «Как сочинять музыку после Освенцима?» Бродский не был бы великим поэтом конца нашего века, если бы он не жил с этим вопросом-сомнением: можно ли писать стихи после всего, что пережито и содеяно человечеством в нашем столетии? Но Бродский не был бы великим завершителем поэтической традиции, если бы он целиком отдался этому сомнению или ответил на него как-либо иначе, чем он это сделал: «Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом - точней, пугающем своей опустошенностью - месте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием».
Тридцать лет назад Бродский признался: «Я заражен нормальным классицизмом...» Иного трудно было бы ожидать от него: ленинградца - по прописке, петербуржца - по духу, жителя коммунальной квартиры в городе дворцов, вечно требующих и не получающих ремонта. Не от города ли он унаследовал архитектурный инстинкт законченной формы и не от областной ли судьбы ветшающей северной Пальмиры его метафизическое чувство зыбкости сотворенного, близости распада, так легко восстанавливающего первоначальность пустого пространства?
В 1984 г. Бродский увидел выставку голландского художника Карла Вейлинка и по ее поводу написал стихи. Вейлинк, подобно ему, был заражен классицизмом. Его архитектурный, парковый пейзаж на наших глазах превращается в бутафорский, разваливается. Каждая строфа Бродского начинается размышлением о том, что же это такое: «Почти пейзаж... Возможно, это будущее... Возможно, также - прошлое... Бесспорно - перспектива... Возможно - натюрморт...» И утверждающее предположение последней строфы, что это, «в сущности, и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела...».
Бродский иронизировал: «В городах только дрозды и голуби верят в идею архитектуры». Иронизировал и продолжал строить, архитектурно воспринимая геометрию мира под холодным взглядом Урании, природу - в своих эклогах, русскую поэзию - от Кантемира до Бродского. У него было классическое, античное чувство стиля, распространявшееся и на человека, достоинство которого состоит в том, чтобы понять, что собой он лишь временно вытесняет пространство, всегда возвращающееся, чтобы восстановить право пустоты.
Муза астрономии когда-то вдохновляла уже русскую поэзию: одические «рассуждения» Ломоносова, раннюю оду Тютчева... Но путь русской поэзии до последнего времени воспринимался как ведущий, пусть с задержками и возвращениями, от архаического монументализма к лирической диалектике души - у Баратынского и у Тютчева, уходившего от своей ранней оды «Урания».
У Бродского «Урания» - поздняя, он пришел к ней после одной из величайших книг русской лирики - «Новые стансы к Аврусте» (1982). Поэтическая потребность возвращения к истокам русского стиха, к русскому одическому мировидению почти совпала у него со стихотворением великого английского поэта-метафизика Джона Донна, впервые узнанного незадолго до ссылки и затем сопровождавшего Бродского в Норенскую. По возвращении Бродским пишутся подражания Кантемиру... Для него встает вопрос об отношении к традиции русского стиха. Тогда это был общий вопрос.
^ Поэтический бум. Для поэзии минувших тридцати лет трудно найти некий общий объединяющий ее принцип. Ни безусловного лидера, ни безусловно преобладающей тенденции... Пожалуй, есть лишь общность всеми обсуждаемой проблемы: отношение к традиции. В сущности это вечная проблема, но от эпохи к эпохе рефлектируемая с различной степенью остроты. Прошедшие двадцать лет в русской поэзии были временем, когда осознание поэтической традиции становилось все более настойчивым и обязательным. О ней задумывались поэты, о ней спорили критики. Однако этот общий для всех вопрос отчетливее всего и разъединял. Целый ряд критических дискуссий о поэзии был посвящен проблеме традиции как таковой, но постоянно спорили и о выборе, об оправданности продолжения того или иного поэтического пути.
Время задуматься о традиции наступило после нескольких десятилетий бытования советской литературы, главным достоинством которой считалась ее устремленность в будущее. К тому же поэзии предписывалось гн^т^е^же^я^ящз^1^з^мле^заниматься делами насущными, а не саморефлексией, которая не раз была обличаема как формализм, дань прошлому, аполитичность. Серьезные прегрешения, за которые - в зависимости от общей ситуации - спрашивали очень строго, а то и просто не печатали.
В более мягкой форме эти обвинения сводились к упреку в «книжности», который постоянно звучал в последние двадцать лет. И уж совсем дело бывало плохо, если, помимо избыточной начитанности, поэта ловили на том, что он читает не тех, кого следует, избегает магистрального пути развития советской литературы. Понятно, что в стороне от магистрали оказывался и весь Серебряный век, и авангард, и Ахматова, и Пастернак, и Клюев, и Заболоцкий, не говоря уж об обэриутах, вовсе не упоминаемых.
Период с 60-х годов до начала «перестройки» стал временем трудного, но очень целенаправленного овладения культурным пространством, расширения границ дозволенного и допустимого. Трудно, но все-таки издавали нежелательных, с официальной точки зрения, классиков XX в. Издавая, разумеется, не хотели, чтобы изданные были широко и внимательно прочитаны. За право прочитать также приходилось бороться, а потом - за право вступить в диалог собственным творчеством... В этом диалоге, подхватывая слово, однажды прозвучавшее, напечатанное, т. е. уже как бы дозволенное, пытались сказать больше, чем смогли бы от собственного имени. Традиция не только учила, но и давала необходимый резонанс, мыслилась как форма иносказания и приращения смысла, способ освобождения.
Но на этом общность кончалась, ибо в собеседнике выбирали разных поэтов и свободы высказывания добивались, чтобы сказать свое. Так что поэтическое движение последних двадцати лет представляет столкновение разных вкусов, их противостояние. Нормальная ситуация, но переживалась она как нечто ненормальное: в другом слишком часто видели противника, мыслящему и пишущему в ином стиле отказывали в даровании. Сомнения распространялись на достоинство самого поэтического слова, на современную поэзию в целом. Правда, все чего-то ожидали. Ожидали также разного, но равно верили, что ожидание исполнится или уже исполняется.
Неопределенность будущего пытались рассеять и оглядывались на прошлое - на самое недавнее прошлое. Оно хорошо запомнилось, ибо ничто так не врезается в память, как успех.
В прошлом - в 60-х - был «поэтический бум». Ожидать ли нового? Или к нему не стремиться, предпочтя иной критерий для определения истинных достоинств?
«Поэтический бум» был одним из следствий «оттепели». Отогрели замороженное, заледеневшее слово, и едва ли не прежде всего оно выплеснулось лирикой. Она тоже была под запретом. Поэтический бум был предварен негромкой капелью маленьких лирических книжек: «Раздумья» Н. Асеева, «Стихи» Л. Мартынова... Сейчас даже трудно представить, как они читались тогда, сколько в них находили новизны, свежести и смелости. Ведь после постановления 1940г. (отмененного в 1988 г.) лирика могла пробиваться, по сути дела лишь в переводах: потому-то шекспировские сонеты в переводе С. Маршака звучали откровением, в них выговаривалось запретное, поддавленное.
И вот - «оттепель»... После долгого "ггерерьта - сборники непечатаемых, крамольных Ахматовой, Пастернака; Цветаевой, Заболоцкого... За ними вдохновленные ими, иногда ими же поддержанные приходят молодые. Им откликается читатель, начинается всеобщий поэтический восторг: залы не вмещают всех желающих слышать стихи, сборники не доходят до прилавков.
Слово расковалось - в мысль, в образ. Таким было тогдашнее ощущение, ибо тогда сравнивали с тем, что предшествовало. Теперь же, когда мы прочли не только напечатанное тогда, но и то, что тогда напечатать не удавалось, нередко удивляемся: неужели не печатали? Свобода оставалась очень ограниченной, и продолжалась она вместе с оттепелью недолго.
Поэты порой действительно забегали дальше других, торопили. Е. Евтушенко, требовавший тогда (со страниц «Правды»!) «из наследников Сталина Сталина вынести», писавший со всей откровенностью о «Бабьем Яре», пытался сказать и сделать то, что и сегодня сказать можно, но сделать в полной мере не удается. А тогда он едва успел проговорить свои лаконичные формулы (в этом, быть может, его настоящая поэтическая сила), как они стали совершенно неуместными, а его лучшие стихи - непечатаемыми.
Общая ситуация была такова, что ничего кроме разрешенного, подцензурного появиться не могло, таким образом, и сама смелость в печати проходила сквозь идеологический присмотр. Чтобы оставаться благополучным, приходилось ограничивать себя лишь дозволенной смелостью и тосковать по настоящей.
1965 годом датирует А. Вознесенский «Плач по двум нерожденным поэмам» (им открывался сборник «Ахиллесово сердце», 1966). Ностальгическая нота с этого времени - самая искренняя и поэтически верная: сожаление о несделанном. Поэзия прихвачена общим похолоданием. Это сказывается не только на том, о чем и насколько смело она говорит, но и на ее внутренних возможностях, на ее словесной свободе. Поэтический бум питался восторгом, испытаваемым от возможности сказать, которая открылась не только потому, что разрешили, но потому, что было осознано величие русской поэтической традиции XX века. Услышали ее голос, поразились ее открытиями, вдохновились ими. Шестидесятники и по сей день гордятся тем, что они небывало расширили состав поэтической аудитории. Они вправе этим гордиться, отдавая, правда, себе отчет в том, что это деяние потребовало и особого поэтического языка - доступно для начинающего. Они выступили популяризаторами, умело примерившимися к возможностям своего читателя и слушателя, к требованию преимущественно молодежной аудитория, жадной, но слишком неискушенной за пределами хрестоматийной программы. В такого рода общении возникало, особенно на первых порах, взаимно вдохновляющее взаимодействие поэта с аудиторией: жили в стихах, жили стихами.
Потом, и довольно скоро, начали сожалеть о ненаписанном, о нерожденном. Почувствовали тоску по настоящему...
В 1975 г. А. Вознесенский выпустил сборник «Дубовый лист виолончельный», ставший, по сути дела, его первым избранным, первым итогом. За ним в 1976 г. последовала новая книга - «Витражных дел мастер». Первая ее часть («скол» - авторский термин, продолжающий витражную метафору) названа «Ностальгия по настоящему»:
Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию -
ностальгию по настоящему...
Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.
«По настоящему» и «по-настоящему» - разница в дефисе, но разница смысловая. В первом случае «настоящее», которое осмысливается в противоположность «прошлому»; во втором - в противоположность «искусственному, поддельному, ложному». Только в момент совпадения этих двух значений у Вознесенского пишутся искренние и, допущу тавтологию, настоящие стихи. Только когда сегодняшнее, на которое неизменно настроен поэт, ощущается как неподдельное и получает право - без изъятия, без угрызения - быть поставленным в стих. Непосредственность реакции на все, что случается вокруг, и на то, как случается - до мелочей, до подробностей,- это в природе поэтического ощущения Вознесенского, которое тем самым оказывается очень зависимым от внешних условий существования и быта.
Когда же поэт стремится подняться над сиюминутностью настоящего к духовным (в этом - неподдельным, настоящим) ценностям, здесь все чаще срывы. По его стихам мы с большой достоверностью следим не за внутренней потребностью поэта, а за тем, какие проблемы сегодня «носят». Эмиграция сегодня в моде - мы в этом лишний раз убеждаемся, видя, с какой настойчивостью в пределах одной журнальной публикации (Новый мир.- 1989.- № 1) А. Вознесенский метафоризирует на эмиграционные темы: «Моей жизни часть эмигрировала...» И на той же странице:
Мозг умирает. Душа-эмигрантка
быстро, как женщина, вещи свои соберет...
Неосторожное дублирование, ибо приоткрывает метод работы. И неосторожное муссирование темы: едва ли автор заблуждается насчет того, что действительные эмигранты, особенно среди поэтов, ни за внутреннего эмигранта, ни за поэта-бунтаря Вознесенского не считают.
Еще ранее, при первых признака» нового религиозного возрождения, А. Вознесенский наполнил стихи соответствующим словарем: обедня, крестный ход, икона, Побор и, конечно, распятие, ибо распятым поэт ощущает себя. Высокое и божественное. Вечное опрокидывается в сегодняшнее и возвышает его, делая - настоящим? Нет, не получается. Вовлеченное в поэзию, эти ценности популяризируются, размениваются. То, что должно смотреться неподдельно, выглядит туристическим проспектом, рекламой памятников старины. Вещи нужные, но для поэзии недостаточные. От ощущения этой недостаточности - ностальгия по настоящему без подделок и фальши.
Изменчивость неизменного. К началу 70-х поэтический бум исчерпал себя, хотя его инерция еще долго продолжала сказываться - в медленно падающей популярности его творцов, в далеко не сразу, но пустеющих поэтических аудиториях и в том, как много поэтических сборников залеживается на прилавках. Но главное было в другом, ибо приметы внешнего успеха перестают восприниматься верным свидетельством собственно поэтического достоинства. «Громким» поэтам противопоставляют «тихих» (вводится даже термин «тихая лирика», под который попадают поэты самые разные: от Н. Рубцова до В. Соколова и Д. Самойлова). Тех, кого именуют «тихими», объединяет не характер поэтической культуры (он порой очень разный), но в первую очередь поэтическая судьба, в которой обязательно присутствует поздняя или запоздалая известность.
Эта поэзия не рвется к эстрадному микрофону. Так 70-е и стали временем запоздалых, а то и посмертных открытий: сначала вологодский поэт Николай Рубцов (1936-1971), потом воронежский Алексей Прасолов (1930-1972). Эти «тихие» имена стали поводом к очень громкой критической пропаганда, которая оказала тем самым умершим поэтам-не лучшую услугу. Когда Рубцова или Прасолова объявляли стоящими в русской поэтической антологии вслед за Пушкиным и Тютчевым и ни за кем другим, то это вызывало ответную реакцию - нежелание прочесть и отдать должное.
На протяжении 70-х гг. многие поэтические имена, независимо от желания самих поэтов, сделались объектом критического манипулирования, выстраивались в ряды и школы. «Органичным» поэтам (Рубцов и Прасолов открывают их ряд) противопоставляли «неорганичных», «книжных»: А. Тарковского и Д. Самойлова, Б. Ахмадулину, Ю. Мориц, А. Кушнера, хотя у каждого из названных своя «книжность», свое, порой очень разное, отношение с традицией и своя мера одаренности.
Одним (Тарковскому, Кушнеру) более свойственно усилие припомнить и настроить звучание своего стиха в лад с высоким строем классической поэзии. Другие (Мориц) склонны не столько переноситься в прошлое, сколько сами эти классические ассоциации приближать к себе, осовременивать своим голосом. И от тех и от других отличен Давид Самойлов, в первую очередь рефлектирующий в стихе, переживающий своим стихом дистанцию, все более отдаляющую нас от тех, в ком продолжился Серебряный век русской поэзии, благодаря чему этот век был почти современным нам:
Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло, и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
Это восьмистишие Д. Самойлова помечено 1966 г.- годом смерти Ахматовой. Оно кажется удачным эпиграфом к двум последующим десятилетиям в нашей поэзии.
Не случайно, что оно написано Д. Самойловым. Он последним в своем, военном поколении издает первую книгу - в 1958 г. Его значение в полной мере начинает осознаваться лишь в 70-е после выхода в свет первого маленького сборника избранных стихотворений - «Равноденствие» (1971).
Самойловская легкость, самойловская ирония: «Я сделал вновь поэзию игрой...» - привлекала одних и отталкивала-других, полагавших более отвечающей духу времени пгеуттетбЧйвувд- торжественность, с которой следовало докладывать о великом, о свершениях, о нравственных исканиях... Тон определял многое. По нему узнавалась и эстетическая позиция - отношение к традиции, на верность которой присягали все, однако по-разному. Для одних она-пространство, открытое каждому движимому знанием и любовью. Для других- ревниво охраняемая зона. Первые непринужденны, раскованны, претендуют не более чем на роль собеседника. Вторые напыщенны, торжественны и бронзовеют на глазах.
Нужно ли говорить, что Самойлов из числа первых? Его стихи - знак определенного стиля, далеко не только поэтического, и котором сама легкость, уклончивость приобретали значение высказывания. Как будто бы не о главном...
Многое в его стихах - как будто бы... Как будто бы поэзия - игра, как будто бы все в ней только сиюминутно, бегло, неповторимо:
Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет.
Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы
И этот легкий, ковкий звон.
И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы...
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
Напрасно ждать и дожидаться,
Притерпливаться, ожидать
Того, что звуки повторятся
И отзовутся в нас опять.
«Повторов нет!» - таков тезис, доказываемый, а на самом деле опровергаемый стихом. Как много их, повторов, в этих строчках. Пушкин - его нельзя не узнать, он процитирован откровенно и хрестоматийно. Начинается стихотворение с полуцитаты в первой же строке: «Сухие, чистые морозы...» - стихотворение Владимира Соколова.
И завершается все повтором, тютчевским, из его стихотворения о радуге - этом символе мгновенной красоты:
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его - лови скорей!
Значит, есть повторы, все повторимо, хотя и не буквально, а по закону изменчивости неизменного. В стихе Самойлова - множество полуцитат, реминисценций, на которых поэт не задерживается. Они лишь определяют характер постоянно потщерживаемой, но не обнаруживаемой, не выпячиваемой связи с традицией, возникают, поглощаемые движением стиха.
В 70-е традиция - предмет постоянных критических споров, повод к которым дает сама поэзия. Поэтическое прошлое становится предметом рефлексии, выбора. Традиция обнаруживает себя как процесс двусторонний, как диалог, в котором по-новому (без хрестоматийной заученности) выглядит и тот, кто оказывает влияние, и тот, кто его воспринимает. От его восприимчивости и от его таланта зависит степень равноправия собеседников.
Поэзия 1970-х — начала 1990-х годов — это послеоттепельное явление. В ней угасают характерные для 1950— 1960-х годов восторги по поводу революции и ее героев, становится все меньше од о преимуществах советского строя и т. д. Свои коррективы в тематику, общее настроение внесли события, связанные с объявленной перестройкой, начавшейся демократизацией жизни. На первый план выходит моральная (в том числе национально-патриотическая) проблематика. Углубляется критическое начало. Политическая тематика уступает место интонациям философски углубленного постижения личности. Внимание к этой стороне бытия приводит поэзию к необходимости по-новому противостоять проявляющимся в общественной жизни моментам бездушия и расчеловечивания.
Пристрастно-личностные мотивы в сознании поэтов во все времена приводили литературу к осмыслению темы Родины, ее исторических судеб, гуманистических перспектив развития. На рубеже 1960-х — начала 1970-х годов эту тему блистательно развивал Николай Михайлович Рубцов (1936—1971).
Творчество Рубцова Н.М.
Творчество этого большого художника следовало бы отнести к шестидесятым годам хронологически: жизнь поэта оборвалась в январе 1971 года. Н. Рубцову было тогда лишь тридцать пять лет. Но творения этого мастера по своему духу явно связаны с послеоттепельной эпохой, знаменуют собой новый этап развития художественного слова. Если поэтические создания 1950—1960-х годов литературная критика именовала «громкой» или «эстрадной» лирикой, то Н. Рубцов — создатель «тихой» лирики. «Ключевым» его произведением стало стихотворение «Тихая моя родина» (1964). В самом этом названии отразились и проблемно-тематические, и жанрово-стилевые характеристики поэзии, и самого Н. Рубцова, и лирики 1970-х — начала 1990-х годов вообще. В «тихой» поэзии слышен принципиальный отказ от трибунных жестов и романтических деклараций в направлении «громкости» душевной, психологической.
На могиле Н. Рубцова высечены строки самого поэта из стихотворения «Видение на холме» (1964):
Россия, Русь! Храни себя, храни!
В этих словах афористично выражен основной пафос поэзии Н. Рубцова. Тревога за судьбу страны — это уже главная интонация и более поздней, и современной поэзии.
Творчество Чухонцева О.Г.
Олег Григорьевич Чухонцев (род. в 1938 году) печатается с 1958 года. Его стихи публиковались на страницах журналов «Юность», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Дружба народов». В 1976 году вышел его сборник под названием «Из трех тетрадей». В это издание вошли стихи разных лет.
Лирический герой О. Чухонцева — тоже представитель «тихой» лирики. Его стихам не свойственны обязательные ссылки на точное время и место действия. В стихотворении «Осенины» (1968) содержится характерное признание:
Я жил. И я ушел. И нет меня в помине.
И тень моя скользит неслышно по равнине.
Монолог, произносимый от имени человека, ушедшего из жизни, — прием в поэзии не новый. Но произведение «Осенины» начинается строками о жизни!
Так дышится легко, так далеко глядится.
Что, кажется, вот-вот напишется страница.
Очевидно: поэт не изображает своего героя, а выражает его душевное состояние. Именно чувство душевного волнения — основной предмет поэзии О. Чухонцева.
Творчество Кузнецова Ю.П.
Мастера, начавшие свой путь в рамках «громкой» поэзии, также полны тревоги за судьбы мира, но в отличие от представителей «тихой» поэзии и в 1970-х — начале 1990-х годов продолжают высказываться набатно, обличающе. Их стиль — письмо, рассчитанное не на описание внутреннего состояния героя, а на гневное обличение.
Юрий Поликарпович Кузнецов (1941—2003) стал известен читателю в 1970-е годы. Интонация прямого обличения ему не присуща. Но и сдержанность «тихой» лирики поэта не устраивает. Мастер использует достижения обоих стилевых направлений: энергичен в высказывании и одновременно сосредоточен на осмыслении внутреннего мира современника. Недаром его поэзию критики именуют «органической лирикой». Отличительной чертой поэтического стиля Ю. Кузнецова стало широкое использование гиперболы. Так, в стихотворении «На краю» (сборник «После вечного боя» (1989)) лирический герой мучительно взывает к Всевышнему:
Боже мой, ты покинул меня
На краю материнской могилы.
Лирического героя тревожит вопрос: кто же защитит душу матери, если Бог потерял силу? Интенсивность словесных красок, тропов «работает» у Ю. Кузнецова на концентрацию тревоги за современность и за место личности в ней.
Творчество Евтушенко Е.А.
Евгений Александрович Евтушенко (род. в 1933 году) в 1980-е годы, развивая традиции В. Маяковского, открыто обличает мещанина нового времени, например, в стихотворении «Отечественные коалы».
В 1995 году Е. Евтушенко написал поэму «Тринадцать», которая заглавием и содержанием перекликается с поэмой «Двенадцать» А. Блока. Поэт повествует о Москве октября 1993 года, когда, как известно, кризис власти разрешался с помощью военной силы. Потрясает сюжет произведения... В яму с горячей водой, образовавшуюся вследствие аварии водопроводной системы, попала коляска с грудным ребенком. Трагедия произошла вроде бы случайно: засмотревшись на тапки, молодая мама забыла о коляске. Но поэт трактует трагическую историю как расплату за долгие годы неправедного пути страны.
Е. Евтушенко в 1990-х годах во многом преодолевает свою приверженность к «оттепельным» мифам, призывает к покаянию, к пониманию каждым, что и он сопричастен всем историческим событиям современности.
Подобная эволюция заметна и в творчестве Андрея Андреевича Вознесенского (1933—2010).
Творчество Вознесенского А.А.
Духовная опустошенность общества его потрясает. В 1986 году появилась поэма А. Вознесенского «Ров». В основу ее сюжета положен страшный факт: ров, в который гитлеровцы в годы войны сбрасывали расстрелянных мирных жителей, позже стал предметом корыстного интереса мародеров — ведь у кого-то из убиенных зубные коронки были золотыми; можно во рву отыскать и золотое колечко...
В поэме все новоявленные «золотоискатели» названы «новорылами», а чувство, приведшее их на место страдания, поименовано словом «алчь».
А. Вознесенский создает художественно-публицистическое произведение, как и Е. Евтушенко, наследуя традиции поэта-трибуна В. Маяковского.
Творчество Чичибабина Б.А.
Мотив активного служения обществу пронизывает поэзию Бориса Алексеевича Чичибабина (1923—1994). Б. Чичибабин прошел войну солдатом минометного взвода. После войны изведал лагеря. Там были написаны его первые стихи. «Оттепель» дала Б. Чичибабину новые возможности. Правда, в русло «громкой» поэзии он «не вписался», ибо всегда оставался самим собой, «сохранял лица необщее выраженье». Гражданственность, страстность звучания его стихов поистине ошеломляют. Многие исследователи именно поэтому его поэзию называют одической. Ода, как известно, — жанр «торжественный», хвалебный или оплакивающий. Однако в одах Б. Чичибабина нет праздничности, свойственной этому жанру с позитивным содержанием. Взор его лирического героя просветляется лишь тогда, когда сердцем он прикасается к вечному — к природе или любви.
Лирический герой поэзии Б. Чичибабина — патриот. Но его любовь к Родине мучительная, пронизанная сложностью, драматизмом чувствования (стихотворение «Тебе, моя Русь... »):
Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю.
Молиться молюсь, а верить не верю.
Творчество Тарковского А.А.
Значимым явлением литературы 1970-х — начала 1990-х годов стало развитие философской лирики, духовный мир личности в которой чаще всего выступает самодостаточной реальностью. Тому есть объяснение: общество все более осознает основополагающую роль индивида в движении человечества к социальной духовной гармонии. Характерный пример такой поэзии — творчество Арсения Александровича Тарковского (1907—1989). В литературе этот мастер оставил значительный след, но публиковался не часто. Открытия художника слова философски насыщены, полны подтекстового, интуитивного содержания:
Дом без жильцов заснул и снов не видит.
Его душа безгрешна и пуста.
Образ «дома без жильцов» в одноименном стихотворении — несомненная метафора, обозначающая состояние души. Лирический герой А. Тарковского может и пустую душу объявить безгрешной. В данном случае — это не спор с этической традицией, а закономерное углубление взгляда на жизнь, ее сущность. Пустота души может существовать как синоним ожидания встречи с новой жизнью. Дом ведь пока пустует...
Творчество Самойлова Д.С.
Философической глубины исполнены многие стихотворения Давида Самойловича Самойлова (1920—1990), вошедшие в сборник «Горсть» (1989). Один из его разделов назван «Беатриче». Это название поэт объясняет следующим образом: «меня Беатриче — знак суровой, требовательной и неосуществленной любви».
Тревожное восприятие души современника как своего рода «результата» невоплотившейся любви характерно для поэзии Д. Самойлова («Желанье и совесть — две чаши... »):
Как жуткий пожар чернолесья.
Дымится нутро человечье.
Творчество Ахмадулиной Б.А.
Прощающая доброта свойственна лирической героине Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937 - 2010). В стихотворении «Здесь никогда пространство не игриво...» (1985) чарующая белизна черемухи противостоит тьме ночи. Героиня Б. Ахмадулиной живет именно «в среде черемух», в прекрасном мире духовной свободы, эстетической и этической независимости, лирического удаления от утилитарно понятых проблем общества. Поэтесса, рожденная «оттепелью», выступила со своим уникальным, отдаленно-таинственным проникновением в современность, несомненно, поклоняясь благородной отрешенности М. Цветаевой и А. Ахматовой.
Творчество Корнилова В.Н.
Сложность и противоречивость человеческого бытия заставляет поэтов вглядываться в явления, смысл которых, казалось бы, известен человечеству с незапамятных времен.
Владимир Николаевич Корнилов (1928—2002) — мастер, начавший свой путь в литературе еще в 1950-е годы, спрашивает:
Что такое свобода?
Это кладезь утех?
Или это забота
О себе после всех?
Вопрос задан в стихотворении, написанном в 1988 году, во время «перестройки». Оказывается, любому социальному переустройству должно предшествовать приближение каждого из нас к свету собственной души, к вершине подлинной свободы. Только поэзии под силу отличить свободу истинную от мелочной, поддельной.
3.1 Возвращенные имена
Конец 80-х годов – новый период в развитии русской поэзии. Перед ней открылись новые возможности, обусловленные гласностью, снятием всяческих запретов с печатного слова. Самое знаменательное событие этого периода как в поэзии, так и в литературе в целом – "возвращенные" произведения, которые в свое время по разным причинам были исключены из историко-литературного процесса. Среди них – произведения, не публиковавшиеся вовсе, либо опубликованные, но изъятые сразу же, либо изданные за рубежом, созданные на протяжении семидесятилетнего су-ществования советского государства. В конце 80-х годов русский читатель впервые знакомится с рядом поэм, написанных несколько десятилетий назад: "Реквием" А. Ахматовой, "Россия" М. Волошина, "По праву памяти" А. Твардовского, "Сказка о Правде" М. Исаковского, "Грозная тризна" П. Антокольского. Их содержанием стала драматическая история страны, испытания, обрушившиеся на ее народ во времена революции, гражданской войны, сталинских репрессий.
В конце 80-х были изданы неопубликованные ранее стихотворения А. Ахматовой, Б.Пастернака, М.Цветаевой, М.Волошина, О.Мандельштама, вышли новые пополненные собрания их сочинений и сборники. В начале 90-х годов к читателю пришло, наконец, творчество Б.Чичибабина, И.Лиснянской, И. Ратушинской, А.Галича, В.Шаламова, неизданные ранее стихи Б.Слуцкого. В виде сборников-антологий была опубликована лагерная поэзия разных лет: "Среди других имен" (1990), "Поэты-узники ГУЛА Га" – 12 выпусков (1991 – 1992), куда вошли стихотворения Е.Ильзен, О.Адамовой-Слиозберг, А.Барковой, С.Бондарина, А.Чижевского, М.Фроловского, В.Муравьева, С.Виленского и др. политзаключенных, чье поэтическое слово рождалось за колючей проволокой.
Борис Чичибабин (1923–1994) – русский поэт, родился и большую часть жизни провел в Харькове. Пережил арест и пять лет сталинских лагерей. В 60-е годы были изданы с большими цензурными купюрами его сборники. Но уже в начале 70-х годов поэт полностью был исключен из литературного процесса, изолирован от читателя, лучшие его произведения писались "в стол". В 90-е годы вышли сборники его стихов разных лет: "Колокол", "Мои шестидесятые ". И только с этого момента читатель смог убедиться, каким неповторимым голосом обладает поэт, как широк диапазон его тем, жанров и образов. Уже в ранней поэзии "он мыслил в непривычных для оттепели крупностях. Он говорил: "В Игоревом Путивле выгорела трава", – двумя ударами очерчивая силуэт страны, стоящей на апокалиптической черте... вокруг поэзия пьянила себя будущим, а у Чичибабина гудели глухие удары, словно камни срывались и уходили из-под ног в пропасть: на Литве – веселье. В Туле – топоры, на Дону – татары, на Москве – воры". В его поэзии органично соединены гражданские мотивы с философскими раздумьями, автобиографические черты с общечеловеческими проблемами. Лирический герой – "удивительно, обезоруживающе прям и открыто простодушен. Его стих правилен и ясен, но в нем нет докторального напора и... нет самозабвенья правоты".
Мрачная история страны, судьба политзаключенных и поэтов-узников во все времена оживает в стихотворениях "Клянусь на знамени веселом", "До гроба страсти не избуду...", "Нам стали говорить друзья...", "Федор Достоевский". В центре лирики Чичибабина – напряженней духовный поиск, стремление постичь смысл жизни и призвания человека на земле, ценность истинного и мнимого богатства, приблизиться к свету божественной истины ("Молитва". "Меня одолевает острое...", "Дай вам Бог с корней до крон...", "Диалог о человеке" и др.). Важный пласт в поэзии Чичибабина посвящен культуре, создателям поэтического слова. Замечательный образ Гомера, странствующего слепого поэта, физически немощного, но величественного старца воссоздам в одноименном стихотворении. Целый ряд фигур- Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Шевченко, Твардовский, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Пришвин, Грин – постоянные адресаты и образы поэта ("Сонет Марине", "Путешествие к Гоголю", "Памяти Александра Трифоновича Твардовского", "На могиле Волошина". "Стихи о русской словесности" и др.). Стихи о творчестве проникнуты высокой патетикой, в традициях русской классики поэт мыслит себя ответственным за счастье и боли всего мира, а его слово воспринимается как божественный дар и откровение ("Пока хоть один безутешен влюбленный...", "Поэт - что малое дитя...", "О дай нам Бог внимательных бессонниц..."). Не случайно в лирике Чичибабина так много прямых обращений к Богу, молитвенных пассажей, библейских образов и реминисценций.
Многообразен и жанровый состав его лирики . Здесь и классические литературные жанры – оды, сонеты, стансы, элегии, послания; жанры духовной лирики - псалом, молитва; фольклорные формы - былина, плач . В цикле "Сонеты к картинкам" Чичибабин возрождает традицию "словесной живописи", подписи к картине, наброска-зарисовки жанровых сцен.
Жанровые поиски свойственны творчеству Ирины Лиснянской (р. 1928), поэтессы, чье имя после скандала в связи с "Метрополем" замалчивалось. Ее стихотворения и сборник стихов публиковались в 80-е годы на Западе. Русский читатель впервые широко знакомится с ее творчеством в 1991 г., когда выходит ее книга "Стихотворения". Это своего рода "лирическая автобиография", искусно и сложно выстроенная с нарушением непосредственной хронологии". В рецензии критик перечисляет главные качества ее поэзии – лирическая глубина, минимум изобразительных средств, естественное и тонкое преображение лирики в эпику, высокий религиозный пафос.
И.Лиснянская – автор любопытных в жанровом отношении произведений. "В госпитале лицевого ранения" – классический венок сонетов, объединенных темой жестокой памяти войны и военного детства. К каждому из сонетов предпослан эпиграф из русской поэтической классики – Тургенева, Лермонтова, Некрасова, Баратынского, Мандельштама, Волошина и др. Их содержание своеобразно переосмысливается в каждом из сонетов. В поэме "Ступени" Лиснянская обращается к традиции "алфавитной" структуры поэтического произведения, оригинально переосмысливая ее применительно к историческому прошлому и современности России. В двух частях поэмы - "Явь" и "Сон", выстроенных в прямом и обратном алфавитном порядке, находит отражение сложный внутренний мир лирической героини, авторская самоирония, гротеск, пересекаются реалии российской жизни и быта 80-х годов и персонажи "высокого" порядка из мировой литературы и Библии. Напряженный нравственный и духовный поиск лирической героини в драматическое время, "естественная религиозность"" свойственны поэтическим текстам И. Лиснянской.
В 80–90-е годы в рамках постмодернизма в литературе складываются новые течения в поэзии. В основном их формирование происходило в неофициальной литературе андерграунда, которая до середины 80-х годов практически не публиковалась (за исключением сборников и альманахов в самиздате и тамиздате). Эта поэзия находила читателя через иные формы общения – на неофициашьных литературных вечерах, диспутах, на выступлениях в клубах и литературных студиях. В 1983 году в Центральном доме работников искусств прошел вечер, носивший название "Стилевые искания в современной поэзии: к спорам о метареализме и концептуализме". Здесь впервые было заявлено о двух стилистических течениях в поэзии и произошло их теоретическое размежевание. Подобного русская поэзия не наблюдала со времен литературных диспутов 20-х годов.
4.2.Концептуализм как эстетическое течение постмодернизма
На восьмидесятые годы в русской поэзии приходится доминирование концептуализма. Тексты «московских концептуалистов» (это прежде всего Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. Рубинштейн) фиксируют такое состояние культуры, когда все традиционные связи разомкнуты, и, хотя это не манифестировалось никем из них, все они сознательно или неосознанно своим творчеством конституировали «конец литературы». «„Конец литературы“ - ощущение переполненности. (…) Литературная непроходимость привела к ощущению невозможности дальнейшего описания и интеллектуального постижения мира без рефлексии по отношению к предшествующей литературе» (М.Берг). Постмодерн отрицает за высказыванием право легитимировать различные дискурсы и декларирует «невозможность „лирического голоса“ и самоценного словесного образа (ибо образ и есть обозначение своего уникального, лирического положения в пространстве)» (Д.Кузмин).
Как пишет Илья Кабаков, один из основателей и теоретиков концептуального искусства в России, «…не автор высказывается на своем языке, а сами языки, всегда чужие, переговариваются между собой». То есть текст выстраивается из обломков иных, уже существующих текстов и языков, и для русского концептуализма основными «источниками» оказываются советский дискурс и тексты русской классической литературы, поскольку и тот и другой к этому времени воспринимаются как мертвые текстуальные практики. Эта «смерть текста» и становится предметом высказывания в концептуальной поэзии, обнажение «пустотности любого языка» (по выражению Дмитрия Кузмина) оказывается основным message’ем концептуализма: «питательной почвой для него становится окостенение языка, порождающего некие идеологические химеры –эстетика косноязычия» (М.Эпштейн).
Представители его в поэзии – Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, отчасти - Г.Сапгир, Тимур Кибиров. Они во многом опираются на творческие принципы поэзии русского авангарда 20-30-х годов, в частности, обэриутов – Д.Хармса, А.Введенского, Н.Олейникова, раннего Н.Заболоцкого. Главная задача концептуалистов состоит в развенчании стереотипов мышления, запрограммированного сознания человека, которому годами внушались однозначные представления о культуре, ее формах и языке. Объектом осмеяния, пародии в текстах концептуалистов становятся язык, с его окостеневшими бюрократическими штампами и формулами, общими местами, советская литература соцреализма, массовое сознание. Как и обэриуты, поэты конца XX века обращаются к приемам гротеска, поэтике абсурда, фантасмагорическим искажениям, иронии, приемам литературной игры . Вместе с тем наблюдается и определенное отличие, на которое очень точно указал М. Эпштейн : "У Зощенко или Олейникова массовое сознание персонализируется в каком-то конкретном социальном слое (мещанском, нэпманском и т. д.) и в образе конкретного героя, говорящего обычно от первого лица. Концептуализм чужд такой локализации социальной или психологической, вычленяемые им структуры и стереотипы принадлежат не конкретному сознанию, а сознанию вообще, авторскому в той же степени, что и персонажному".
Дмитрий Пригов (р. 1940) – яркий представитель концептуализма в поэзии, поэт и одновременно художник, скульптор, драматург и прозаик. Публиковался в 70–- первой половине 80-х годов в самиздате и за границей, в годы гласности начал издавать стихотворения в отечественных журналах. В 90-е годы вышел ряд его сборников: "Слезы геральдической души" (1990), "Явление стиха после его смерти" (1995), "Написанное с 1975 по 1989" (1997), "Написанное с 1990 по 1994" (1998) и др. Характеризуя творчество Д. Пригова, трудно применять традиционные понятия поэтических жанров. Его произведения – это, скорее, непрерывный поток концептуалистских текстов, сплошное пародирование известных цитат, литературная игра. Не случайно в них – неупорядоченный синтаксис, практически отсутствуют знаки препинания. Поэтическим текстам, как правило, предшествуют прозаические "Предуведомления", зачастую представляющие характер критических манифестов.
Поэт отказывается от традиционного понятия "лирический герой", в его стихах действуют герои-маски – пожарник, "милицанер" ("Апофеоз милицанера"), сам поэт Дмитрий Александрович Пригов, выступающий в роли учителя жизни, близкого народу и разделяющего его вкусы и ценности. Перед нами "настоящий советский человек", "советский патриот", "поэт – гражданин", воспринимающий жизнь сквозь набор пропагандистских клише, мыслящий готовыми смысловыми блоками, не имеющий ни собственной индивидуальности, ни собственного языка". В конечном итоге главным "лирическим героем" Пригова становится Государство.
Любопытно использование жанра "Азбуки" в практике концептуализма. С середины 70-х годов Приговым написано их 86. Эта известная с древности форма служит для создания своеобразного "микрокосмоса соц-артистской инвентаризации советского мира".
Главным средством его развенчания и десакрализации становится язык – "артикуляция советского подсознательного", пародирование мира "наглядной агитации", средств массовой информации, идеологической установочной речи, языка плаката и лозунга. Пригов сознательно обращается к приемам эстетики примитивизма, низводит их до рифмоплетства, стимулирует своеобразное графоманство и косноязычие, которое выступает оборотной стороной велеречивой советской эпохи. В известной степени творчество Д. Пригова – тоже продукт эпохи. В 90-е годы оно, как и вся неофициальная поэзия, оказалось перед новым испытанием – гласностью, снятием всяческих запретов и табу. Новая реальность находит отражение в цикле "Стереоскопические картинки частной жизни", "При мне", "Метакомпьютерные экстремы". В последнем цикле автор прибегает к фонетическому, графическому экспериментаторству в духе футуризма начала века, что не всегда удается автору и отчасти приводит к полному отказу от смысла.
Любопытные варианты поэтического концептуализма представлены в текстах Льва Рубинштейна (р. 1947). В 70-е годы он публиковался в самиздате и за границей. В 90-е годы вышли его стихи на карточках "Мама мыла раму", "Появление героя", "Маленькая ночная серенада" (1992), сборник "Домашнее музицирование" (2000). Основной принцип творчества Рубинштейна – это конструирование текстов из речевых фрагментов, занесенных на отдельные карточки. Они объединяются в лейтмотив или систему лейтмотивов. Например, стихотворение "Всюду жизнь" построено на перефразировании известного высказывания Н. Островского о жизни, которая дается человеку один раз:
Жизнь дается человеку не спеша.
Он ее не замечает, но живет..
.Так...
<... >
Жизнь дается человеку чуть дыша...
Все зависит, какова его душа...
Стоп!
<... >
Жизнь дается человеку, чтобы жить, чтобы мыслить и страдать, и побеждать..Замечательно!
Постоянное варьирование одной и той же фразы сопровождается различными оценочными репликами: "Так!", "Стоп!", "Замечательно!" и т. д. Готовые высказывания служат для передачи смысла – столкновение нормативных и ненормативных представлений о жизни. Очень часто автор использует речевые штампы, образования, которые характеризуют опять-таки массовое сознание эпохи, подневольность всякого рода высказываний, стирание индивидуальностей ("Алфавитный указатель поэзии", "Появление героя", "Шестикрылый Серафим" и др.). "Карточная" поэзия обладает определенным ритмом, в котором само перелистывание карточек является ритмообразующим фактором, а сама карточка "выступает как квант ритма и смысла".
Всеволод Некрасов (р.1934) как представитель неофициальной литературы публиковался в самиздатовском журнале "37" и за рубежом. В конце 80-х – начале 90-х вышли его книги "Стихи из журнала" (1989), "Справка" (1991). Его концептуалистские тексты ярко демонстрируют отказ от традиционного типа массового сознания и расхожих представлений о том, какой должна быть поэзия. Больше, чем другие поэты, он прибегает к графическому экспериментированию, часто использует сквозные пробелы между строками – паузы, включает сноски в стихотворный текст, обращается к палиндромам и визуальным стихам. Он выстраивает тексты по принципу монтажа из газетно-журнальных клише, характеризующих советский менталитет: "Пути и судьбы/ навстречу жизни/ сильнее смерти/ за тех, кто в море" и др. Его лексика - зачастую образец замусоренного языка усредненного человека с обилием междометий, служебных слов, канцеляризмов, бесконечных антиэстетических повторов одного и того же слова, которое таким образом теряется, становится таким же общим местом. Ибо одна из задач этого направления – "показать обветшалость и старческую беспомощность словаря, которым мы осмысливаем мир" м. В целом, поэты-концептуалисты стремятся к определенной схематизации действительности и ее развенчанию через языковые модели, активно экспериментируют в области ритмики, строфики, графического оформления стиха.
В 90- е годы особой популярностью пользуется творчество Тимура Кибирова (псевдоним Запоева Т. Ю., р. 1955). Он становится наиболее обсуждаемой фигурой на страницах литературно-художественных журналов. Часть критики причисляет его к последователям поэтики концептуализма, другая часть утверждает, что творчество Кибирова – наиболее яркое выражение современной культурно-художественной ситуации, именуемой постмодернизмом, и отражает наиболее кардинальные его свойства: травестионная центонность текстов, ирония, устранение оппозиций между высоким и низким, трагическим и смешным, элитарным и массовым. Одно из ключевых понятий постмодернизма – принцип деконструкции – в его поэзии осуществляется "с некоторой поправкой: Кибиров не разрушает, а фиксирует разрушение, понимает его неизбежность и необходимость, но пытается спасти то, что ценно (а это еще надо понять, испытав насмешкой).
В конце 80-х годов поэт активно публиковался в самиздате и в зарубежных изданиях – "Континент", "Время и мы", "Синтаксис" и др. С начала 90-х годов печатается в отечсственных литературно-художественных журналах, издает сборники: "Общие места" (1990), "Календарь" (1991), "Стихи о любви. Альбом-портрет" (1993), "Сантименты. Восемь книг" (1994), "Парафразис" (1997), "Интимная лирика" (1998), "Памяти Державина" (1998), "Нотации" (1999). Кибиров обращается к жанру поэмы и трансформирует его в иронической, пародийной плоскости ("Когда был Ленин маленьким", "Жизнь К. У. Черненко", "Песни стиляги", "Сквозь прощальные слезы", "Лесная школа" и др.). Подобно своим предшественникам-концептуалистам, Т. Кибиров выбирает объектом деконструкции, пародирования советскую эпоху, ее историю, мифологизированное массовое сознание, и особенно - официальную советскую культуру. Его стихи представляют сплошной игровой поток речи, нанизывание цитат, расхожих клише, общих мест из газетной продукции, ключевых слов из популярных советских песен. Текст известной "Песенки про капитана" Лебедева-Кумача поэт совмещает с названием популярного романа Каверина "Два капитана" и наполняет "новым историческим" содержанием:
Вот гляди-ка ты - два капитана
За столом засиделись в ночи.
И один угрожает наганом,
А второй третьи сутки молчит.
Капитан, капитан, улыбнитесь!
Гражданин капитан! Пощади!
Распишитесь вот тут.
Распишитесь!! Собирайся.
Пощады не жди.
В поэме "Сквозь прощальные слезы" (1987 ), эпиграфом к которой предпосланы строки Анны Ахматовой из цикла "В сороковом году", перед читателем проходит советская эпоха, показанная через перечень бытовых и исторических реалий, тех самых лубочных стереотипов массового сознания, "примет времени", что являют как бы "развороченный улей истории, из которого вылетают имена, обрывки газет, названий, запахи, куплеты позабытых песен, аббревиатуры, космические корабли и страницы микояновской кулинарной книги". Пять глав поэмы хронологически представляют "этапы большого пути"– историю советского государства – гражданская война, 30-е годы, время Великой Отечественной войны, послесталинская оттепель и, наконец, "застойные" 70-е годы. Исторические реалии, поданные в нарочито сниженной ритмической форме, перемежаются с цитатами из популярных в эти годы произведений советской литературы: М. Исаковского, М. Светлова, В.Маяковского, А.Твардовского, В.Каверина, К.Симонова, Ю. Бондарева, Б.Слуцкого, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Е.Долматовского и др. и оппозиционных советскому режиму стихов О.Мандельштама, А.Ахматовой, А. Галича. Через этот поток информации Кибирову важно донести основной смысл – трагедийное содержание истории советского государства, подмена реальности мнимостями, моральное оскудение, убогость быта, торжество хаоса вместо гармонии, крушение романтической утопии шестидесятников.
«Несмотря на использование пародийного "цитатного", центонного языка, свойственного поэтике постмодернизма, в отличие от концептуалистов, Кибиров не отказывается от раскрытия своего лирического "я". Оно присутствует в поэме через интонацию, "рыдающую" ноту, оплакивание эпохи и себя самого как ее представителя»,– пишет М.Берг.
Предметом поэтического осмысления для Кибирова становится и литература, причем не сама по себе, а ставшая в определенной степени сферой жизни, "образом жизни", низведенная до уровня массового восприятия:
Диккенса вслух перечитывать, и Честертона, и, кстати, "Бледный огонь ", и "Пнина ", и "Лолиту ", Ленуля, и Леву будешь читать-декламировать. Бог с ним. с де Садом... Но и другой романтизм здесь имеется – вот он, голубчик, вот он сидит, и очки протирает, и все рассуждает, все не решит, бедолага, какая - такая дорога к Храму ведет, балалайкой бесструнною вес тарахтит он. // прерывается только затем, чтобы с липкой клеенки сбить таракана щелчком, и опять о Духовности, Лена, и медитирует, Лена, над спинкой минтая.
Образ перегруженного информацией, своего рода замусоренного, задавленного сознания возникает в текстах поэта в самых неожиданных ситуациях. Например, в поэме "Когда был Ленин маленьким " речь идет о птичке-реполове, которую убил маленький Ульянов:
Лети же в сонм теней, малютка-реполов,
куда слепая ласточка вернулась,
туда, где вьются голуби Киприды,
где Лесбии воробушек, где Сокол
израненный приветствует полет
братишки Буревестника, <... >
где соловей над розой, где" снегирь
выводит песнь военну, где и чибис
уже поет юннатам у дороги,
и где на ветке скворушка, где ворон
то к ворону \летит, то в час полночный
к безумному Эдгару, где меж небом
и русскою землею вьется пенье,
где хочут жить цыпленки, где заслышать
где безымянной птичке дал Свободу,
храня обычай старины, певец,
где ряба курочка, где вьется Гальциона
над батюшковским парусом...
В этом реестре птиц, принадлежащих различным культурным пространствам, - фольклор, классика – Державин, Пушкин, Батюшков, Эдгар По и др. , полублатная песня, шлягер периода 80-х годов, наконец, мало кому известная книга А. И. Ульяновой о Ленине – важна их принципиальная несовместимость. Она и порождает иронию: "Сближение образов, немыслимое для привычного поэтического пространства, есть в реальности: в сознании человека, выросшего в советской культуре и читавшего классику".
В поэзии Кибирова – обилие бытовых деталей, вещных реалий времени, он часто намеренно приземляет разбег своей музы, совмещая несовместимое, обращается к ранее табуированным темам, лексическим пластам ("Элеонора", "Сортиры"). Ему присущ намеренный антиромантизм, обилие быта – своеобразный протест против укоренившегося в литературе романтического неприятия быта, один из аспектов полемики с литературой.
В отличие от Т. Кибирова, в творчестве которого находит отражение образ автора, поэзия Василия Друка (р.1957) представляет типичный для постмодернизма образ авторской маски. В 80-е годы В. Друк был участником андерграунда, в 90-е годы издал книгу стихов "Коммутатор", публикует свои тексты в многочисленных зарубежных изданиях. С 1993 г. поэт живет в США.
Наиболее популярна его "стереопоэма" "Телецентр" (1989 ), в которой при помощи цитат, пародийного осмеяния журналистики советского периода, основных клише телепрограмм воссоздан образ всеобщего Хаоса. Поэма графически оформлена, разбита на два "телеканала", которые имитируются двумя столбцами-текстами, разделенными пробелом. Каждый из них относительно самостоятелен, развивает свою тему. Но прочтение их по горизонтали последовательно усиливает картину дисгармонии, хаоса. Автор-персонаж надевает маску современного шута, постоянно иронизирует. Один из удачных образов в этом достаточно экспериментальном произведении - преследование человека, который в прямом "и переносном смысле пытается спастись от кошмара - будь то политика, очередное кровопролитие, национал-экстремизм или бездуховное существование:
вот тридцать улиционеров
призывно дующихв свистки
бегут за мною
от тоски
и я бегу за ними следом
за мною джон бежит и ленон
и тридцать два кило трески
бесы-балбесы
гербицид – пестицид
Карабах – барабах
дуремары – вперед!
Буратино– назад!
Итак, в текстах современных концептуалистов отчетливо опознается «связь с поп-артом на уровне приемов и с обэриутами на уровне языка и отношения к предшествующей традиции» (М.Берг). Поэтические тексты Дмитрия Пригова и Льва Рубинштейна вряд ли были бы возможны, если бы не было серьезного опыта «конкретистов» (Ян Сатуновский, Вс. Некрасов и др.), которые с 50-х годов «учились открывать эстетическую ценность в обрывках бытовой и внутренней речи, стремились дать права гражданства в поэзии „речи как она есть“» (Всеволод Некрасов), доводя до логического конца линию развития русского, да и мирового стиха, связанную с осознанием относительности, условности границы между «поэтическим» и «непоэтическим» (Д.Кузмин). Свобода обращения с языком и вольность экспериментов с внетекстовым пространством наследуется поэзией 80-х именно у них.
Такое ощущение себя внутри мертвой культуры и обусловливает специфику этой поэзии, основные черты которой достаточно точно сформулированы Михаилом Бергом: «невозможность „лирической интонации“ и самоценного словесного образа (…), пристрастие к стертой речи (выносящей автора с его симпатиями и антипатиями за скобки), обретение себя концептуалистами только внутри чужой речи, чужой интонации, чужого мировоззрения и отчетливая установка на отказ от своей индивидуальности».
Автор практически полностью самоустраняется в этих текстах - не только из страха тотальности, страха навязать свою истину, свою точку зрения, но и прежде всего из невозможности личного, «прямого высказывания» (В.Кулаков). Как пишет Михаил Айзенберг в манифестационном предисловии к сборнику концептуалистов «Личное дело», «в сегодняшней литературной ситуации авторская воля, кажется, возможна только по отношению к чужому материалу. Чужие голоса и стили еще поддаются композиционной режиссуре и сюжетной игре».
Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье
(Всеволод Некрасов )
Концептуалисты же работают уже не с прямыми цитатами, они моделируют существующие стили, не отсылая ни к какому тексту конкретно, а воссоздавая заново целиком манеру письма, обнажая таким образом принципы ее устройства и тем самым выхолащивая ее. Им свойственна прежде всего «…ироническая рефлексия, свободная от готовых решений и включающая сам порождаемый автором текст в сферу метаязыковой рефлексии. Таким образом, литература все решительнее порывает с реальностью, углубляется в самопознание и ищет источники развития уже внутри себя. Образуется обширное поле метапоэтики, стирающей границы между собственно художественными и научно-филологическими жанрами» (Н.Фатеева).
Голос поэта «начисто лишен не только монопольного, но даже преимущественного положения, уравнен в правах с другими перебивающими и заглушающими его голосами, представляющими каждый какой-то из известных и легко опознаваемых слушателем литературных, бытовых или идеологических стилей, «материализованных, – как пишет А.Зорин, – в виде образцов, фрагментов, квазицитат».
Таким образом, концептуалисты избирают «…путь множественного языка, как бы локального вавилонского столпотворения, языка языков, который делает иным (то есть художественным) не качественный уровень составляющих, а отстраненно-демиургическое отношение к ним автора» (М.Айзенберг). Все это ведет в итоге фактически к «выходу из стихов», «…выходу в метапозицию, к проектному мышлению, когда качество текста вообще перестает играть роль»(Д.Кузмин).
4.3. Метареализм как явление постмодернистской поэзии
Параллельно с концептуализмом в современной поэзии оформилось другое течение – метаметафоризм (или, по определению М. Эпштейна,– метареализм). Представителями течения чаще всего именовали трех поэтов – И.Жданова, А. Еременко, А.Паршикова. Позднее с этим течением соотносили творчество О. Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, Т.Щербины, А.Драгомошенко, Н.Некрепко, Н. Кононова, С.Гандлевского и др. Со временем определение "метаметафористы" постепенно отпало, и их творчество стало рассматриваться в русле постмодернизма. Эти авторы стремятся к усложнению поэтического языка, углубленному изображению реальности. Они обращаются к сфере духа, культуры: "Метареализм создает высокий и плотный словесный строй, ища пределов преображения вещи, приобщения к смыслу, он обращен к вечным темам или вечным прообразам современных тем, насыщен архетипами: любовь, смерть, слово, свет, земля, ветер, ночь. Материалом творчества служат природа, история, высокая культура, искусство разных эпох". Критик полемизируете понятием "метаметафоры", предлагая свой термин – "метабола" для характеристики данной поэзии, которая строится не на метафорическом уподоблении, предполагающем определенное сравнение, иерархию, а на "сопряжении разных предметных рядов, которые соотносятся между собой не метафорически, не иносказательно, но как равноправные составляющие одной реальности, множественной в своих измерениях" .
Иван Жданов (р.1948) опубликовал свой первый сборник "Портрет" в 1982 г. , затем последовали годы "неофициальной" популярности, и только в 90-е годы были опубликованы книги "Неразменное небо" (1990), "Место земли" (1991), "Фоторобот запретного мира"(1997) . Для Жданова характерны постмодернистское ощущение бытия как хаоса: "Мы входим в этот мир, не прогибая воду,/ горящие огни, как стебли, разводя. / Там звезды, как ручьи, текут по небосводу/ и тянется сквозь лед голодный гул дождя". Мотивы трагической безысходности, темноты и всеобщей "глухонемоты", затерянности человека в хаосе бытия звучат во многих стихотворениям поэта. Обращает на себя внимание связь с культурной традицией поэтического барокко, с его нарочито темным стилем, обилием причудливых ассоциаций, усложненных образов.
Поэтическое слово И. Жданова многомерно, ориентировано на поток мгновенных ассоциаций, быструю их смену ("культура быстрых ассоциаций" О. Мандельштам ). Стихи порой сложно выстраиваются, как изображение на трехмерной стереокартине. Вновь становится актуальным интеллектуально подготовленный читатель, соавтор, имеющий познания в области истории, философии, античной, восточной, славянской мифологии, христианской культуры. И. Жданов возрождает поэтику метаморфоз: "Море, что зажато в клювах птиц - дождь. / Небо, помещенное в звезду, - ночь. / Дерева невыполнимый жест - вихрь. / Душами разорванный квадрат - крест". Привычные предметы и понятия обретают необычные ракурсы: "Слепок стриженой липы обычной окажется нишей", "Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий/ и гонит по стеклу безмолвный шум травы", "Любовь, как мышь летучая, скользит/ в кромешной тьме среди тончайших струн". Природа подобной образности, соотносимая с художественными поисками начала века, например, практикой имажинизма, коренится в более давних, диахронических типологических связях.
Параллельно со сложным метафорическим стилем поэзия И. Жданова унаследовала и метафизический статус, сложную философскую насыщенность, устремленность к поиску связи с Абсолютом. Границы бытия и небытия, познаваемого и непознаваемого, ограниченность возможностей человеческого познания о мире, несмотря на многочисленные достижения разума, науки и техники XX века,- такова область напряженного размышления автора.
В лирике Жданова нашли отражение, наслоились друг на друга очень разные философские традиции и представления. В основе – идеи Платона и неоплатонизм, проявляющиеся в представлении мира как продукта идеи, божественной энергии: "Каждый выдох таит черновик завершенного мира", "у меня в голове недописанный тлеет рассвет". Любопытно в этом плане стихотворение "Дом", где "памятью" природы восстанавливаются части уже не существующего здания:
Умирает ли дом, если после него остаются
только дым да объем,
только запах бессмертный жилья?
Как его берегут снегопады,
наклоняясь, как прежде, над крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте,
где стены стояли,
охраняя объем, который
четыре стены берегли.
Нет окна,
но тянутся ветви привычно
клена красного, клена зеленого,
клена голого, заледеневшего
восстанавливать это окно.
Процесс материализации мысли представлен И. Ждановым наглядно: "отбрасывают тени не предметы, а мысли, извлеченные на свет". В поэтической философии И. Жданова обнаруживается и влияние мыслителей начала XX века – теории "всеединства" бытия, разработанной В. Соловьевым, Н.Лосским, С.Франком, Н.Федоровым, Тейяром-де-Шарденом, идей относительности пространства, времени ("мнимости геометрии" П.Флоренского). Лирический субъект мыслится неотъемлемой частью мирового целого, космоса, сущностью, которая может перетекать из одного состояния в другое, обретать разные формы, а потому в принципе неуничтожимо: «Завоевание стихий подобно отождествленью собственного "я " в одну из форм, где радует догадка, что воскресенье все-таки возможно».
Эта концепция определяет и отличительную особенность лирического героя И. Жданова, которая позволила М. Эпштейну в указанном исследовании определить ее следующил образом: "не лирическое "я", выделенное и противопоставь ленное миру, не избранный объект, поставленный на пьедестал перед зрением художника, а мир в целом, точнее, та упругая энергийная среда, которая разносит по всему миру свои волны, размыкающие обособленность "я" и вещей".
Действительно, у поэта нет непроходимой границы между природой, миром вещей, явлений и бытием, чувствами человека. Они неразделимы, перетекают друг в друга: «Расстояние между тобою и мной – это и есть ты. И когда ты стоишь передо мной, рассуждая о том и о сем, Я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты, И ты смотришься в них и не видишь себя целиком».
Внутри рояля мы с тобой живем,
из клавишей и снега строим дом.
Варианты подобного, еще большего развоплошения лирического героя находим в стихотворениях "Контрапункт" ("и там, внутри иголки, как в низенькой светелке, войду в погасший свет..."), "Рапсодия батареи отопительной системы", где герой представляет себя втянутым движением воды в чугунные русла батарей. Это уже, безусловно, образец поэтического сюрреализма, своеобразный рецидив индустриального, технократического сознания XX века.
И.Жданову особенно близка идея относительности бытия, мироздания, мнимости, ложности человеческих представлений о нем:
Кто б мог подумать, что и ночь от солнца
и что она - всего лишь тень земли,
как тень простой какой-нибудь былинки,
которой только сил недостает,
чтоб с неба снять дневное покрывало
и приоткрыть сверкающую бездну.
Эти же мотивы находят отражение в эссе "Мнимости пространства", воплощены в приеме "обратной перспективы", нарушении иерархии: "Когда неясен грех, дороже нет вины/ - и звезды смотрят вверх и снизу не видны", "небо, помещенное в звезду - ночь. /Дерева невыполнимый жест - вихрь", "Там звезды, как ручьи, текут по небосводу/ и тянется сквозь лед холодный гул дождя".
Важной составляющей философского и мифопоэтического видения поэта выступает христианская традиция . Поэт обращается к ветхозаветным темам и образам, дает им оригинальную интерпретацию. Применительно к новой эпохе трактует, например, сюжет о блудном сыне в стихотворении "Возвращение". Трагизм современников – в острой нехватке духовной лакуны, символического места, куда можно вернуться:
Знать бы, в каком краю будет поставлен дом
Тот же, каким он был при роковом уходе.
Зато незыблемы символы Ноева ковчега, креста, жертвы распятия Иисуса Христа ("На Новый год", "Завоевание стихий", "Холмы"). Ноев ковчег ассоциируется с зерном, символом жизни и надежды: "Но вот зерно светлеет на ладони,/оно - ковчеге многооконным креном: /для каждой твари есть звезда и место. / Свежеет ветер - надо жизнь будить". Крест обретает традиционно теологическую символическую интерпретацию: "тени нет у одного предмета, / который и предметом-то назвать едва ли можно: тени у креста, /настолько свет его соправен солнцу/ и даже ярче".
Безусловный интерес представляет творчество двух талантливых поэтесс - Ольги Седаковой и Елены Шварц. Работая в рамках постмодернистской эстетики, они сохраняют тесную связь с культурными традициями прошлых эпох. В творчестве О. Седаковой прослеживается связь с образной системой поэзии символизма.
В целом ряде стихотворений Е. Шварц ("Детский сад через тридцать лет", "Соната темноты", "Лоция ночи") воссоздан образ хаоса, звучат барочные мотивы быстротечности жизни, преходяшести всего земного, мир обретает фантасмагорический облик. Основная идея этих стихотворений - невозможность совместить Божий замысел с мировым хаосом. Поэтесса использует многочисленные атрибуты и приемы барочной поэтики - единение красоты и безобразного, высокого и низкого, элементы натурализма, призванные эпатировать читателя ("Элегия на рентгеновский снимок моего черепа"). Е. Шварц импонирует типичное для древности мифологическое уподобление устройства человеческого тела устройству универсума:
Вот он проснулся средь вечной ночи Первый схватил во тьме белый комочек и нацарапал ноты, натыкал На коже нерожденной, бумажно-снежной... И там мою распластанную шкурку, Глядишь, и сберегут, как палимпсест. Или как фото неба - младенца.
Достаточно сложные, ассоциативные образы, и дело не только в том, что "сам человек оказывается лишь обрывком бумаги, на которой дух горний впопыхах записывает... свои озарения... Соединяя символизм и баррочность, Шварц не только создает специфический - телесный и визионерский одновременно - вариант постмодернистской поэтики. Она вплотную подходит к тому порогу, за которым проблематичной становится лирика как таковая", – пишет М.Берг
Поэзию постмодернизма отличают ощущения хаоса, катастрофичности , дисгармонии, которые порождены эпохой. Наиболее адекватным их выражением становится образ темноты в поэзии Е. Шварц, глухонемоты вселенной – в творчестве И. Жданова, В. Кальпиди. Отсюда и внимание поэтов к катастрофическим состояниям ("Лиман", "Землетрясение в бухте Цэ" А.Парщикова), необычная образность стихотворений А.Еременко, похожая на картины И. Босха.
Алексей Еременко (р. 1950) в 80-е годы был активным представителем андерграунда, он снискал славу поборника "иронического "направления в поэзии, занял позицию социального аутсайдера, "подвального" поэта, творчество которого противостоит литературному официозу. Первый сборник – "Добавление к сопромату" вышел в 1990 г., позже были опубликованы книги "Стихи" (1991), "Горизонтальная страна" (1999). В стихотворениях Еременко нашли отражение трагические стороны советской действительности ("Девятый год войны в Афганистане"). Тексты маркированы молодежным сленгом, аллюзиями из рок-культуры. Образность стихотворений строится зачастую не на уподоблении, а на совмещении разных пластов реальности, выявляя особенности мироощущения поэта-постмодерниста, который стремится "раскрыть реальность во всей чудовищности ее превращении
В густых металлургических лесах, где шел процесс созданья хлорофилла, сорвался лист. Уж осень наступила В густых металлургических лесах. Здесь до весны завязли в небесах и бензовоз, и мушка дрозофила. И жмет по равнодействующей сила. Они застряли в сплющенных часах.
Алексей Парщиков наиболее "метафоричный" из всех представителей "метаметафоризма". Это ярко демонстрируют его стихотворные сборники "Фигуры интуиции" (1989), "Выбор места" (1994), поэма "Я жил на поле Полтавской битвы", построенная целиком на нагромождении метафор. Он "сфокусировал поэтическое зрение на страшновато-бездушных реалиях современного техногенного мира, на самосознании человека, пораженного ударной волной информационного взрыва. В каком-то смысле он одновременно и критик, и наследник Вознесенского по НТРовской линии. И по поэтике тоже: кубофутуристические корни у них общие"" 49 .
Несомненно выделяется среди потока постмодернистской поэзии творчество Владимира Кривулина (1944-2001). В 70- 80-е годы он активно публикуется в самиздате (журналах "37", "Северная почта"), в зарубежных периодических изданиях ("Континент", "Грани", "Синтаксис", "Ковчег"). В 80-е годы в Париже вышло два сборника его стихов. В годы перестройки и гласности В. Кривулин стал печататься на родине. в 90-е были изданы две книги стихотворений –"Обращение" (1990), "Концерт по заявкам" (1993), "Купание в Иордани" (1998), Последний сборник - "Стихи юбилейного года" (2001).
Поэзия Кривулина представляется семантически и стилистически усложненной. Для нее характерны интеллектуализм, мифоцентричность, укорененность в культуре. В поле зрения поэта - философская проблематика: категория времени и бытие человека, опыт Ничто, личность и Язык, Слово и Логос. Она своеобразно раскрывается во многих стихотворениях через устойчивые мифологические и культурные символы. Например, мысль о быстротечности человеческой жизни воплощена в традиционном символе времени – песочных часах в одноименном стихотворении В. Кривулина:
что стоит человек – течению времен тончайшая струящаяся мера?
Поэту, как и многим представителям постмодернистской эстетики конца XX ст.– В.Кальпиди, О.Седаковой, Е.Шварц, А.Паршикову и др., близко отрицание смысла исторического движения и возврат к всепроницающему мифологизму. Так, в стихотворении "Клио" муза истории предстает в облике злобной старухи, ведьмы, наконец, смерти; в стихотворении "Кассандра" утверждается значение провидения в истории и идея цикличности исторического времени:
...не Троя кончается– некий
будущий город с мильонным его населеньем.
Обширный пласт поэтических текстов Кривулина связан с восприятием культуры различных эпох. Причем здесь у поэта преобладающими оказываются зрительные образы. В слове переданы пейзажи, натюрморты, живописные полотна известных художников, гобелены, скульптуры и архитектурные ансамбли ("Гобелены", "В Екатерининском канале", "Никольский собор", "Два натюрморта", "Натюрморт с головкой чеснока" и др.).
красный угол черепицы
среди зарослей Сезанна
чеховское чаепитье
на веранде - и вязанье
нудящего разговора:
как мы все-таки болтливы!
<...>
сад погрязнувший в цитатах
красный угол черепицы
в синеве лесного цвета
Совершенно иначе, в пародийном ключе, с использованием приемов поэтики соц-арта живопись представлена в цикле "Из Галереи". Стихотворения цикла однозначно направлены на развенчание штампов эстетики соцреализма.
В более поздних сборниках В. Кривулина "Концерт по заявкам", "Купание в иордани" усиливается звучание духовной проблематики. Вместе с тем библейские образы и религиозно-философские мотивы соседствуют с пристальным вниманием к современности, с ее проблемами и коллизиями.
Таким образом, современная поэзия во многом противоречива, не все в ней принимается читателем и критикой. Поиск новых форм, образов иногда оборачивается беспредметностью, простой утратой смысла, нагромождением ничего не значащих образов. Развитие поэзии происходит в различных направлениях, вместе с тем разные явления в ней "не столько расходятся, сколько в конечном итоге сходятся: постфутуро – обэриутская и постсимволистско-акмеистская линии тесно связаны единой постмодернистской ситуацией".
100 р бонус за первый заказ
Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line
Узнать цену
Большинство исследователей считало и продолжает считать, что на рубеже 50-х - 60-х годов наступил новый этап в истории поэзии, связанный с социальными изменениями: с разоблачением культа личности и последовавшей за ним "оттепели". Литература после небольшой паузы отреагировала на эти события всплеском творческой активности. Своеобразной "визитной карточкой" того времени стала поэма А. Твардовского "За далью - даль" (1953-1960), тогда же Б. Пастернак создал цикл стихотворений "Когда разгуляется" (1956-1959), вышли сборники Н. Заболоцкого: "Стихотворения" (1957) и "Стихотворения" (1959); Е. Евтушенко: "Шоссе энтузиастов" (1956); В. Соколова: "Трава под снегом" (1958). Всенародная любовь к поэзии - "примета времени середины пятидесятых: литературные альманахи издавались едва ли не в каждом областном городе." Большую роль в этом сыграла "реабилитация" С. Есенина: "Память народа и время сняли запрет с имени поэта. И точно плотину прорвало!" Вот что писал в то время о С. Есенине Н. Рубцов (он искал следы пребывания поэта в Мурманске): "Что бы там ни было, помнить об этом буду постоянно. Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина".
60-е годы для советской поэзии - время расцвета. Внимание к ней необычайно велико. Выходят книги Е. Евтушенко: "Нежность" (1962), "Идут белые снеги" (1969), особенную известность приобрели его поэма "Бабий Яр" (1961) и стихотворение "Наследники Сталина" (1962); растет слава А. Вознесенского (Сб."Антимиры",1964 и др.). "Второе дыхание" открывается и у признанных "мэтров": "Лад" (1961-1963) Н. Асеева, "Однажды завтра" (1962-1964) С. Кирсанова, "Послевоенные стихи" (1962) А. Твардовского, "Первородство" (1965) Л. Мартынова, "Совесть" (1961) и "Босиком по земле" (1965) А. Яшина, "День России" (1967) Я. Смелякова. Выходит итоговый сборник А. Ахматовой "Бег времени" (1965). "Громкая" и "тихая" лирика становятся не только литературным явлением, но и приобретают общественное значение. И "тихие", и "громкие" поэты выпускают многочисленные сборники, которые не остаются незамеченными. В первой половине 60-х "эстрада" бьет все рекорды популярности. Вечера в Политехническом музее, в которых принимают участие А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, собирают полные залы. Открытая публицистичность у "эстрадников" уже тогда переходила все пределы. Даже в своих поэмах, посвященных прошлому ("Лонжюмо" А. Вознесенского, "Казанский университет" Е. Евтушенко и т. п.), собственно истории было мало. Зато много было попыток "приспособить" ее к нуждам дня сегодняшнего, не особо беспокоясь об исторической правде. Другим их "грехом" стала безудержная страсть к экспериментаторству. Подлинным "открытием жанра" стала в те годы так называемая "авторская песня". Изначальная камерность исполнения в эпоху советской массовости отодвинула ее на второй план официальной культуры, но только не в сердцах людей. Песни военных лет - самое яркое тому подтверждение. Кстати, первая "авторская песня" появилась в 1941 году ("О моем друге-художнике" М. Анчарова). Начиная со второй половины 50-х годов песни М. Анчарова, Ю. Визбора, А. Галича, А. Городницкого, А. Дулова, Ю. Кима, Н. Матвеевой, Б. Окуджавы, А. Якушевой и других "бардов" пользовались огромным успехом, особенно у молодежи. Расцвет "авторской песни" пришелся на 60-е - 70-е годы. Их социальный подтекст был понятен всем. Важнейшее в этом ряду, бесспорно, творчество В. Высоцкого. Он стал "поэтом нового русского национализма" (П. Вайль и А. Генис). "Герой его песен противопоставляет империи свое обнаженное и болезненное национальное сознание. Высоцкий, заменивший к концу 60-х Евтушенко на посту комментатора эпохи, открывает тему гипертрофированного русизма. Антитезой обезличенной, стандартизованной империи становится специфически русская душа, которую Высоцкий описывает как сочетающую экстремальные крайности."
Появляется также и авангардистская поэзия – Бродский, Сапгир, Вознесенский.
Во второй половине 60-х годов в СССР стала развиваться подпольная "самиздатовская" поэзия "неофициальной" или "параллельной" культуры. Эта поэзия была обречена на преследования и безвестность: "Дух культуры подпольной - как раннеапостольский свет" (В. Кривулин). Широко известными (в узком кругу) были следующие группы: СМОГ (Смелость Мысль Образ Глубина или Самое Молодое Общество Гениев) - она возникла в середине 60-х в Москве, в нее входили В. Алейников, Л. Губанов, Ю. Кублановский и др. ; Лианозовская поэтическая группа (В. Некрасов, Я. Сатуновский, В. Немухин, Б. Свешников, Н. Вечтомов и др.); Ленинградская школа (Г. Горбовский, В. Уфлянд, А. Найман, Д. Бобышев, И. Бродский и др.); группа "Конкрет" (В. Бахчанян, И. Холин, Г. Сапгир, Я. Сатуновский и др.). Во второй половине 60-х годов в поэзии господствовали "тихие" лирики: А. Жигулин (Сб. "Полярные цветы" (1966)); В. Казанцев ("Поляны света" (1968)); А. Передреев ("Возвращение" (1972)); А. Прасолов ("Земля и зенит" (1968); В. Соколов ("Снег в сентябре" (1968)) и др. В 1967 году увидела свет знаменитая книга Н. Рубцова "Звезда полей". Одно из стихотворений поэта "Тихая моя родина" и дало повод критикам назвать поэтическое направление "тихой" лирикой. Она привлекла внимание углубленным анализом человеческой души, обращением к опыту классической поэзии. В. Соколов, например, заявлял об этом ясно и определенно: "Со мной опять Некрасов и Афанасий Фет". Тонкий психологизм, соединенный с пейзажем, был характерен не только для лирики В. Соколова, но во многом он здесь был впереди других "тихих" поэтов, хотя бы потому, что в 50-х годах выпустил сборник с превосходными стихотворениями ("Трава под снегом" (1958)).
В 1974 году В. Акаткин задал риторический вопрос: "Нет ли в этом факте опровержения механической схемы движения поэзии как простой замены "громких" "тихими", нет ли указания на единство (выделено мной. - В. Б.) происходящих в ней процессов?" (660, С. 41).
И "тихие" и "громкие" поэты объективно подняли русскую поэзию на новый художественный уровень. О значении "тихой" лирики уже говорилось выше, "эстрадники" же не только "расширили диапазон художественных средств и приемов" (644, С. 30), но и выразили, пусть и поверхностно, те настроения, чаяния и надежды, которыми тоже жил в то время народ
Слишком узкое понимание развития поэзии в 60-х годах как борьбы двух направлений давно отвергнуто литературоведами (В. Оботуров, А. Павловский, А. Пикач и др.). Ведь в эти годы не только у поэтов, попавших в "тихую" обойму", но и во всем "почвенном" направлении прочно устанавливается исторический подход в художественном осмыслении действительности, усиливается стремление понять национальные и социальные истоки современности, происходит органичное слияние этих двух начал. Целое созвездие поэтических имен дало поколение, ставшее широко известным в эти годы.
К концу 60-х поэтов этого направления "все чаще будут объединять под условным и неточным наименованием "деревенские поэты." Здесь имелось в виду как их происхождение, так и приверженность к теме природы и деревни, а также определенный выбор традиций, идущих от Кольцова и Некрасова до Есенина и Твардовского. Одновременно с термином "деревенские" поэты возник термин "тихая поэзия", позволивший включить в один ряд как "деревенских" поэтов, так и "городских", но сходных с первыми по вниманию к миру природы, а также по регистру поэтического голоса, чуждающегося громких тонов и склонного к элегическому тембру, простоте звучания и ненавязчивости слова. Надо вместе с тем сказать, что внимание к миру природы у наиболее талантливых поэтов этого направления не замыкалось в рамках поэтического живописания, но, как правило, было пронизано интенсивным духовным и философским началом, т.е. осознанно или нет, но имело, так сказать, концептуальный характер."
После окончания поэтического бума (конец 60-х) в поэзии происходят значительные изменения. Поэмы больше не пишут, сборники строятся не так как раньше (подборка стихов теперь не в хронологическом порядке и не случайные, теперь это единое полотно, рассчитанное на целостное восприятие) – Тарковский, Самойлов, Слуцкий, Чичибабин, Межиров, Кузнецов, Ручьев. Появляется поэтический андеграунд - они не признавались и не печатались – леонозовцы, Плисов, Рубинштейн, Седокова, Жданов, Вишневский, Губерман.
Из бардовской (авторской песни) в начале 70-х формируется рок-поэзия, которая в свою очередь состояла из двух школ: московская (Макаревич, Лоза, Градский, Никольский, Романов) и питерская (Гребенщиков, Шевчук, Кинчев, Бутусов).